80 000 километров по воде, по земле и по воздуху (об одном путешествии Н. И. Вавилова)
Николай Иванович имел обыкновение изо дня в день описывать всё, что с ним происходило в дороге. И не в дневниках, а в письмах
к жене, к сыну Олегу, к друзьям по работе.
Передо мной сто двадцать пять писем и открыток, посланных на родину в 1926–1927 годах. Попробуем, читая их, понять, что же происходило в те пятнадцать месяцев, когда, пересаживаясь с парохода на коня, с поезда на автомобиль и самолёт, учёный преодолевал путь в восемьдесят тысяч километров.
Проедем вместе с ним хоть небольшой отрезок этой трудной дороги.
...И вот, наконец, заветная земля: семнадцатого сентября 1926 года Николай Иванович Вавилов вступил на пирс сирийского порта Бейрут. Надолго остался
у него в памяти этот день. "Впуск сопровождался неприятностями. Таскали в полицию, выделили из всех пассажиров, описали с ног до головы все приметы", –
сообщил Николай Иванович жене. От упоминания деталей воздержался. А они были поистине "живописны". Учёного под конвоем, как преступника, вели через
весь город в префектуру, его багаж подвергли унизительному обыску. В гостиницу отпустили только после того, как префект получил телеграфное подтверждение
из Парижа: французская виза в паспорте советского ботаника действительна. Но преследования не прекратились и после этого. Подмандатная территория Франции
Сирия оказалась местом, где научный поиск встретил такой наглый полицейский надзор, что двадцать дней спустя, покидая пределы страны, Вавилов с искренним
вздохом облегчения мог констатировать: "После Сирии чувствую себя человеком".
 На побережье вокруг Бейрута растениеводу делать нечего. Здесь возделываются в основном привозные культуры – банан, сахарный тростник, цитрусовые. Надо во что бы то ни стало прорываться
в глубь страны. Инициатива учёного раздражает полицию. За стенами Бейрута по всей Южной Сирии – партизанская война. Племена друзов атакуют отряды французских войск,
взрывают железнодорожные мосты, держат в страхе всю колониальную администрацию. "Допустим даже, что русский профессор не станет заниматься пропагандой, – рассуждали
в префектуре. – Но стоит ли допускать в зону военных действий лишнего свидетеля". На то, чтобы пробить брешь в стене тупой полицейской непреклонности, ушло еще два дня.
Наконец бронированный поезд повез учёного в Дамаск.
На побережье вокруг Бейрута растениеводу делать нечего. Здесь возделываются в основном привозные культуры – банан, сахарный тростник, цитрусовые. Надо во что бы то ни стало прорываться
в глубь страны. Инициатива учёного раздражает полицию. За стенами Бейрута по всей Южной Сирии – партизанская война. Племена друзов атакуют отряды французских войск,
взрывают железнодорожные мосты, держат в страхе всю колониальную администрацию. "Допустим даже, что русский профессор не станет заниматься пропагандой, – рассуждали
в префектуре. – Но стоит ли допускать в зону военных действий лишнего свидетеля". На то, чтобы пробить брешь в стене тупой полицейской непреклонности, ушло еще два дня.
Наконец бронированный поезд повез учёного в Дамаск.
 "Вот и в самом старом городе мира. Хотя и с бронированными вагонами, со стражей, удалось проникнуть. Город замечательный. На краю пустыни, но сам весь в воде. Сады, ручьи.
Древний Дамаск (впрочем, как теперь известно, среди городов мира далеко не самый древний) пленял глаз. Его незыблемую прочность путешественник ощущал на каждом шагу. Узкие улицы,
как щели в безжизненных горах, кругом пустыня, а ручьи, сбегающие с окрестных вершин, вдосталь поят его тучные поля и сады. Вода плещется в фонтанах, журчит в узеньких арыках
под ногами посетителей арабских ресторанчиков. "По корану здесь всё для рая", – записал Вавилов. Но именно в этом райском месте ему суждено было пережить страдания поистине
адские. Где-то на Кипре или Крите заразился он москитной лихорадкой. По-итальянски имя москита, передающего людям болезнь – папатачи, что в переводе означает "тихо обжираюсь".
Москит папатачи, в отличие от комара, действительно не поднимает большого шума. Зато жертвы "тихого обжоры" стенают потом весьма и весьма громко. Приступ продолжается три дня,
в течение которых больной с высокой температурой мечется в поту, в бреду, а подчас переживает тяжелейшие галлюцинации. Несколько недель перерыва – и опять то же самое.
"Вот и в самом старом городе мира. Хотя и с бронированными вагонами, со стражей, удалось проникнуть. Город замечательный. На краю пустыни, но сам весь в воде. Сады, ручьи.
Древний Дамаск (впрочем, как теперь известно, среди городов мира далеко не самый древний) пленял глаз. Его незыблемую прочность путешественник ощущал на каждом шагу. Узкие улицы,
как щели в безжизненных горах, кругом пустыня, а ручьи, сбегающие с окрестных вершин, вдосталь поят его тучные поля и сады. Вода плещется в фонтанах, журчит в узеньких арыках
под ногами посетителей арабских ресторанчиков. "По корану здесь всё для рая", – записал Вавилов. Но именно в этом райском месте ему суждено было пережить страдания поистине
адские. Где-то на Кипре или Крите заразился он москитной лихорадкой. По-итальянски имя москита, передающего людям болезнь – папатачи, что в переводе означает "тихо обжираюсь".
Москит папатачи, в отличие от комара, действительно не поднимает большого шума. Зато жертвы "тихого обжоры" стенают потом весьма и весьма громко. Приступ продолжается три дня,
в течение которых больной с высокой температурой мечется в поту, в бреду, а подчас переживает тяжелейшие галлюцинации. Несколько недель перерыва – и опять то же самое.
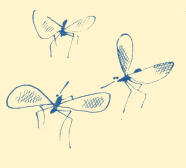 Первый приступ обрушился на Вавилова в Хоране, в горном районе южнее Дамаска. Бывавшие прежде в этом районе ботаники утверждали, что видели там интересные
разновидности дикой пшеницы. Вопрос о дикарке заинтересовал Николая Ивановича. В Дамаске он пересел на поезд, идущий к югу. Полицейская слежка не ослабевала ни на час.
На железнодорожных станциях снова и снова приходилось предъявлять документы. Выход за пределы населённых пунктов был запрещен. И вдруг совершенно неожиданное предложение
французского офицера: если профессору так уж необходимо побывать в окрестных горах – пожалуйста. Друзы не трогают иностранцев. Нужно только в знак миролюбия поднять на
палке белый платок.
Первый приступ обрушился на Вавилова в Хоране, в горном районе южнее Дамаска. Бывавшие прежде в этом районе ботаники утверждали, что видели там интересные
разновидности дикой пшеницы. Вопрос о дикарке заинтересовал Николая Ивановича. В Дамаске он пересел на поезд, идущий к югу. Полицейская слежка не ослабевала ни на час.
На железнодорожных станциях снова и снова приходилось предъявлять документы. Выход за пределы населённых пунктов был запрещен. И вдруг совершенно неожиданное предложение
французского офицера: если профессору так уж необходимо побывать в окрестных горах – пожалуйста. Друзы не трогают иностранцев. Нужно только в знак миролюбия поднять на
палке белый платок.
В обстановке, когда кругом кипела партизанская война, а окружённая баррикадами железнодорожная станция более походила на осажденный лагерь, предложение
офицера выглядело странным, если не сказать провокационным. С чего бы вдруг такое отношение? Не подсказано ли оно бейрутской префектурой, которая,
очевидно, не очень-то опечалилась бы, если бы "дикие" убили русского "большевика". Едва ли метрополия спросила бы строго за это сугубо колониальное
убийство. Тем более, что подозрительный профессор сам стремился в район боёв.
 Николай Иванович не стал вдаваться в глубины полицейской психологии. Он наскоро соорудил "белое знамя", захватил максимальное количество мешочков для сбора образцов
семян и вместе со случайным спутником – американцем, преподающим ботанику в бейрутском колледже, зашагал в сторону ближних гор. Впрочем, всё обошлось спокойно.
То ли помог белый флаг, то ли два невооруженных ботаника вызвали доверие у местных жителей, но в селениях друзов американцу и русскому был оказан самый радушный
приём. Воинственные горцы предоставили гостям верховых лошадей, показали свои поля, одарили образцами семян и даже проводили назад к ощетинившимся баррикадам железнодорожной
станции. Рискованная экспедиция оставила глубокий след не только в памяти участников, но и в сельском хозяйстве Советской России. Возле друзского селения Вавилов нашел особый
подвид пшеницы, который назвал потом хоранкой. Крупнозёрная, с неполегающей соломой и тяжёлым плотным колосом хоранка прижилась в СССР. Перед войной в горных районах Азербайджана
ею засевали десятки тысяч гектаров.
Николай Иванович не стал вдаваться в глубины полицейской психологии. Он наскоро соорудил "белое знамя", захватил максимальное количество мешочков для сбора образцов
семян и вместе со случайным спутником – американцем, преподающим ботанику в бейрутском колледже, зашагал в сторону ближних гор. Впрочем, всё обошлось спокойно.
То ли помог белый флаг, то ли два невооруженных ботаника вызвали доверие у местных жителей, но в селениях друзов американцу и русскому был оказан самый радушный
приём. Воинственные горцы предоставили гостям верховых лошадей, показали свои поля, одарили образцами семян и даже проводили назад к ощетинившимся баррикадам железнодорожной
станции. Рискованная экспедиция оставила глубокий след не только в памяти участников, но и в сельском хозяйстве Советской России. Возле друзского селения Вавилов нашел особый
подвид пшеницы, который назвал потом хоранкой. Крупнозёрная, с неполегающей соломой и тяжёлым плотным колосом хоранка прижилась в СССР. Перед войной в горных районах Азербайджана
ею засевали десятки тысяч гектаров.
Похоже на то, что таящая свои богатства от чужого глаза природа решила отомстить слишком проницательному искателю. Вечером того же дня у
русского профессора поднялась температура. Назад в Дамаск его доставили почти без сознания. Очнулся он в гостинице. У постели ни врача, ни
медицинской сестры. Придя в себя, принялся писать жене: "Поймал малярию. Будет очень неприятно, если это изменит мои планы, так как на счету
каждый день и я не имею возможности быть больным". В письме к профессору Писареву та же досада: "Болезнь несвоевременна, сделать надо ещё так много..."
Не правда ли, странная жалоба для человека, который в чужой, недружелюбной стране лежит, лишённый медицинской помощи, в гостиничном номере с температурой
сорок? Но ведь этот человек – Вавилов. Он приехал в Сирию не для развлечения, не как праздный турист или один из тех богатых иностранцев, чьи великолепные
дачи громоздятся на средиземноморском берегу среди рощи ливанских кедров. Все его интересы – на полях арабских крестьян. А там уже шесть недель как
завершилась уборка урожая. Даже зёрна дикой пшеницы в горах Хорана пришлось разыскивать по одному, копаясь среди пыльных и горячих камней. Ещё день-другой,
с полей Сирии увезут последние омёты пшеницы, и тогда долгожданная встреча с этим важным углом Средиземноморья потеряет всякий смысл.
Лечить лихорадку папатачи в Дамаске никто не взялся. Хина – недейственна. Нужны специальные впрыскивания. Их делают только европейские врачи в Бейруте.
Вавилов возвращается в Бейрут. Он торопит медиков – ему некогда. Опытные специалисты пробуют разъяснить, что лихорадка сильно истощает свою жертву: даже
солдатам после приступов папатачи полагается шестидневный отпуск из армии. Вавилов улыбается: то, что доступно нижним чинам французской армии, увы,
слишком большая роскошь для рядового солдата науки. Уже через шесть дней после первого приступа он устремляется на автомобиле в рейс по Северной Сирии.
Скорее, скорее, опаздывать нельзя, возле Алеппо, на берегах Евфрата – в древнейшем очаге мирового земледелия – начинается уборка хлебов!
 "Вот и великая долина Евфрата, где когда-то процветала ассиро-вавилонская культура, где решались судьбы передней Азии, где Кодекс Хаммураби определял
нормы экономики, права и обязанности граждан. Машина бежит по сельским дорогам, среди бескрайних пшеничных посевов. Учёный оглядывает поля, инвентарь,
склонённые фигуры хлеборобов в белых чалмах и подводит нелицеприятный итог многотысячелетней истории хлебопашества в этом благодатном крае. Вот у дороги
лежит грубосработанный, не оборачивающий земляного пласта плуг. Не многим отличается от орудий шумерской эпохи и молотильная доска с вбитыми в неё кремнями.
"Вот и великая долина Евфрата, где когда-то процветала ассиро-вавилонская культура, где решались судьбы передней Азии, где Кодекс Хаммураби определял
нормы экономики, права и обязанности граждан. Машина бежит по сельским дорогам, среди бескрайних пшеничных посевов. Учёный оглядывает поля, инвентарь,
склонённые фигуры хлеборобов в белых чалмах и подводит нелицеприятный итог многотысячелетней истории хлебопашества в этом благодатном крае. Вот у дороги
лежит грубосработанный, не оборачивающий земляного пласта плуг. Не многим отличается от орудий шумерской эпохи и молотильная доска с вбитыми в неё кремнями.
Орошение убогое – где есть вода, установлены чигирные колёса с жалкими кожаными "вёдрами". Сеют то же, что и в древности – твёрдую пшеницу и двурядный ячмень,
из года в год взращивая на полях одни и те же культуры.
Рюкзак ботаника полон интересными и разнообразными находками, но раздумья его на засушливых берегах Евфрата, при виде реки, которая без удержу несет свои воды в Индийский океан,
скорее печальны, нежели веселы. "Прошлое, несомненно, было богаче, полнее, интереснее современности. Нет никаких сомнений в том, что можно вернуть прошлое в смысле рационального
использования водных богатств и превосходных земель". Но кому этим заниматься? В стране, превышающей по площади Францию, в 1926 году – один агроном. "Страна древней великой культуры...
по существу переживает период глубочайшего упадка, безлюдия, неиспользования огромных естественных ресурсов, которые могли бы дать возможность существования многим миллионам населения.
Единственное, в чём сказалось влияние французов, это стратегические военные дороги, построенные в последние годы".
 Срок сирийской визы истекал восьмого октября. Вечером третьего Николай Иванович кое-как дотащился до Бейрута на сломанном автомобиле. Позади лежал детально обследованный путь
длиной в тысячу пятьсот верст. Еще один рейс – по ливанскому побережью в рощу вымирающего ливанского кедра, упаковка тридцати ящиков с образцами и – прощай, Сирия! Впрочем, в
стране полицейского произвола предсказывать что-либо наперед всегда рискованно. В последний день, зайдя в какое-то официальное учреждение, где ему обещали выдать географические
карты Хорана, Николай Иванович ещё раз почувствовал себя "объектом особого наблюдения". Префектура строго-настрого запретила выдавать "чужаку" какие бы то ни было карты. "Мелка
душа у француза", – в сердцах записал Вавилов, имея в виду не французскую нацию, а вечного и неистребимого врага своего – чиновника.
Срок сирийской визы истекал восьмого октября. Вечером третьего Николай Иванович кое-как дотащился до Бейрута на сломанном автомобиле. Позади лежал детально обследованный путь
длиной в тысячу пятьсот верст. Еще один рейс – по ливанскому побережью в рощу вымирающего ливанского кедра, упаковка тридцати ящиков с образцами и – прощай, Сирия! Впрочем, в
стране полицейского произвола предсказывать что-либо наперед всегда рискованно. В последний день, зайдя в какое-то официальное учреждение, где ему обещали выдать географические
карты Хорана, Николай Иванович ещё раз почувствовал себя "объектом особого наблюдения". Префектура строго-настрого запретила выдавать "чужаку" какие бы то ни было карты. "Мелка
душа у француза", – в сердцах записал Вавилов, имея в виду не французскую нацию, а вечного и неистребимого врага своего – чиновника.

 Николай Иванович Вавилов – замечательный советский биолог и агроном, чья жизнь была трагически прервана в 1943 году.
Он первым пришёл к выводу, что каждое культурное растение имеет свою родину. Он предсказал, что родина ячменя, например, лежит в Эфиопии; место, откуда распространился по свету овёс – Пиренейский полуостров. Как подтверждаются гипотезы, вы можете узнать из отрывка книги Марка Поповского о Н. И. Вавилове.
Николай Иванович Вавилов – замечательный советский биолог и агроном, чья жизнь была трагически прервана в 1943 году.
Он первым пришёл к выводу, что каждое культурное растение имеет свою родину. Он предсказал, что родина ячменя, например, лежит в Эфиопии; место, откуда распространился по свету овёс – Пиренейский полуостров. Как подтверждаются гипотезы, вы можете узнать из отрывка книги Марка Поповского о Н. И. Вавилове.
 В Петербурге, на Исаакиевской площади, рядом с Синим мостом, высится строгое стройное здание. До революции в нём находилась канцелярия
царского министра земледелия. После революции
тут разместился Всесоюзный институт растениеводства. Директором его долгие годы был Н. И. Вавилов. Это отсюда отправлялся в свои поездки по свету неутомимый
академик. В лабораториях и кабинетах института в металлических коробках хранятся десятки тысяч образцов семян культурных растений.
Эти богатства Вавилов собирал по всему свету.
Генетик, растениевод, географ, создатель современных научных основ селекции, он объехал 35 стран на пяти континентах,
для того чтобы отыскать предсказанную родину культурных растений. Найденные им растения и семена хорошо послужили на полях страны.
Перед войной каждый шестой гектар в посевах Советского Союза был засеян семенами, которые привёз из своих экспедиций Вавилов. Вавиловым
и его сотрудниками была создана уникальная, самая богатая в мире коллекции культурных растений. Сегодня эта коллекция – важнейший банк генов.
В Петербурге, на Исаакиевской площади, рядом с Синим мостом, высится строгое стройное здание. До революции в нём находилась канцелярия
царского министра земледелия. После революции
тут разместился Всесоюзный институт растениеводства. Директором его долгие годы был Н. И. Вавилов. Это отсюда отправлялся в свои поездки по свету неутомимый
академик. В лабораториях и кабинетах института в металлических коробках хранятся десятки тысяч образцов семян культурных растений.
Эти богатства Вавилов собирал по всему свету.
Генетик, растениевод, географ, создатель современных научных основ селекции, он объехал 35 стран на пяти континентах,
для того чтобы отыскать предсказанную родину культурных растений. Найденные им растения и семена хорошо послужили на полях страны.
Перед войной каждый шестой гектар в посевах Советского Союза был засеян семенами, которые привёз из своих экспедиций Вавилов. Вавиловым
и его сотрудниками была создана уникальная, самая богатая в мире коллекции культурных растений. Сегодня эта коллекция – важнейший банк генов.