Рассказы А. С. Грина ("История одного ястреба", "Гриф")*
История одного ястреба (рассказ-быль)
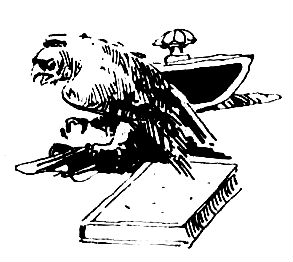 Сейчас, когда я пишу это краткое повествование о детстве, возмужалости, путешествиях и несчастьях ястреба, названного мною Гуль-гуль (хоть привык кликать его сокращенным "Гуль"), этот самый Гуль сидит на моем правом плече и наблюдает движение руки по бумаге.
Сейчас, когда я пишу это краткое повествование о детстве, возмужалости, путешествиях и несчастьях ястреба, названного мною Гуль-гуль (хоть привык кликать его сокращенным "Гуль"), этот самый Гуль сидит на моем правом плече и наблюдает движение руки по бумаге.
Вскоре он понял, что происходит: "Человек рассказывает о птице. Птица – это я". Установив факт, Гуль начал чиститься. Он встряхнулся так, что все его перья отделились одно от другого, провел остро загнутым клювом по рулевым перьям хвоста и маховым – крыльев, сунул голову под крыло, вздыбил там и перечистил все, что и где мог достать, пощипал грудь, поскреб кожу между пальцев, оправил крылья, вновь сложил их, встряхнулся, так сказать, набело. И вот мгновенно исчез взъерошенный образ: перья легли рядком на свое место, красивая большая птица облетела рабочую комнату автора на высоте, доступной ему лишь с помощью стула. Сев теперь мне на левое плечо, Гуль заглянул в лицо с тем "полным понимания выражением глаз", которое так восхищает нас у животных.
Я дал Гулю утреннюю порцию мяса, которое он терзает теперь, сидя между Шалевой книжкой и пресс-папье, и перевернул страницу.
II
 В конце июня 1929 года шел мимо галереи Айвазовского мальчик с большой корзиной. Из корзины несся отчаянный вопль: "Ке-ке-ке-ке!" – и что-то хлопало. Это был двухнедельный Гуль, выпавший из гнезда и живший теперь у подобравшего его мальчика.
В конце июня 1929 года шел мимо галереи Айвазовского мальчик с большой корзиной. Из корзины несся отчаянный вопль: "Ке-ке-ке-ке!" – и что-то хлопало. Это был двухнедельный Гуль, выпавший из гнезда и живший теперь у подобравшего его мальчика.
Заинтересованный писком, я увидел нескладное пушистое существо, очень похожее на цыпленка, только с клювом такой формы, от которой цыпленку несдобровать. Ястребок был большеголов, дик и драчлив. Между прочим, Гуль всегда выказывал безумное мужество, не считаясь никогда с силами противника – человека, собаки, котенка. Если враг, по его мнению, требовал острастки, Гуль яростно кидался на него, издавая свой боевой крик: "Ке-ке-ке-ке!" – и грозно махал крыльями. Но он почему-то боялся индеек и однажды обратился в бегство при виде стада этих глупых птиц, сонно подходивших рассмотреть ястреба.
В мире животных меня более всего привлекают птицы. Как мысль человека, они свободны, потому что летают где и когда хотят. У нас, людей, нет этого дара. Я могу часами наблюдать полет птиц, и, скажу откровенно, с завистью. Так вот, я купил Гуля у мальчика за рубль, а донес свою покупку домой с трудом, потому что Гуль бился, царапался и кусался отчаянно. Я устроил ему жилище в ящике из-под фруктов, затянув открытую сторону ящика проволочной сеткой, а внутрь я поместил камень – будто скала! Еще поставил я жестянку с водой, набросал хлеба и натыкал разных веток, чтобы было зелено Гулю, каменисто, весело. Одним словом, я увлекся птицей. Даже в мыслях у меня не было, что ястреб сделается ручным. Я хотел вырастить его и отпустить.
Домашние прозвали меня "мамкой". Действительно, Гуль, завидя меня, тотчас подбегал к решетке, ожидая лакомого кусочка. Он вначале ел все: хлеб, яблоки, сыр, арбуз, – но раз отведав сырого мяса, ел вегетарианскую пищу только в случае крайней необходимости, когда был голоден.
Поев, Гуль охорашивался, чистился и вспархивал на свой камень, где тотчас гадил. На камне он проводил часы размышления, а проголодавшись, прыгал около проволоки, все время пытаясь ее разогнуть.
К настоящему времени вкусы ястреба определились в таком виде: сырое мясо, сырое мясо превыше всего! Но, странно сказать, он полюбил также макароны. С макарониной в лапе, сидя на жердочке, Гуль напоминает старичка – ученого средних веков, вооруженного свитком своего реферата. Коли он наелся, а макароны остались, то, разжав лапку, Гуль предоставляет огрызку падать, а сам уютно втягивает голову в плечи.
III
Через восемь дней после того, как я купил ястреба, он начал привыкать к обстановке, дичился меньше, подрос; молодые перья хвоста и крыльев ощутительно выровнялись. Все еще хотелось ему кусаться: поднося мясо к решетке, я нередко получал удар в палец. Гуль вырывал мясо из рук и пожирал его с причмокиванием: "Цвик-цвик!"
Мы с женой уехали в Старый Крым, откуда я вернулся через две недели.
В ящике на камне сидел блиставший красотой первого полного оперения молодой ястреб. Он не сразу узнал меня, всматривался долго, с сомнением, наконец признал, выразил это так: когда я открыл проволочную загородку, Гуль смело сел мне на рукав.
И тотчас укусил, как только я захотел погладить его.
IV
 Выпущенный мною из ящика, он, беззастенчиво шляясь по всем комнатам, не давался в руки и оставлял знаки своего пребывания на мебели. Я начал ловить Гуля: он отлетел, побежал по полу, долго пятился задом и лишь после долгих упрашиваний сел на рукав. Тогда вверг я его в узилище, наслушавшись птичьей брани и получив несколько здоровенных щипков.
Выпущенный мною из ящика, он, беззастенчиво шляясь по всем комнатам, не давался в руки и оставлял знаки своего пребывания на мебели. Я начал ловить Гуля: он отлетел, побежал по полу, долго пятился задом и лишь после долгих упрашиваний сел на рукав. Тогда вверг я его в узилище, наслушавшись птичьей брани и получив несколько здоровенных щипков.
Так как Нина Николаевна** разрешила мне выпустить ястреба без нее, то вечером того же дня я не без волнения посадил Гуля на руку, досыта покормил его и вынес по двор.
– Гуль, – сказал я, – это свобода, понимаешь? Свобода! Это твоя жизнь!
Каюсь, я поцеловал его в спинку, но так быстро, что он не успел куснуть.
Волнение, боязнь неведомого и голос инстинкта светились в умных серых глазах птицы. Он весь дрожал, взглядывал на деревья, небо, крышу, но не слетал с руки. Я тронул его за хвост. Гуль перелетел на ветку уксусного дерева и вдруг детским движением бросился мне на грудь.
Прослезившись, я унес Гуля в комнаты, где некоторое время ходил с ним, сидящим на рукаве, не зная, что делать. Окна были раскрыты. Я поднес Гуля к окну и отпустил его. Гуль тотчас слетел на подоконник, с подоконника на мостовую, оглянулся, повернулся и решительно влетел в комнату, сев мне на голову.
При таких обстоятельствах лишь жестокое сердце решилось бы насильно гнать птицу. Обласканный безмерно мясом и словами Гуль переночевал в ящике, а утром я посадил его в клетку, оставшуюся у меня от выпущенных на полю чижей, и повез на автомобиле в Старый Крым. Клетка была обвязана платком. Трясло, но Гуль сидел смирно, прижавшись к прутьям. Взглядывая сверху сквозь складки платка, я встречал изумленный взгляд птицы. Ни одного крика. Несколько ошеломленный ездой, Гуль прибыл к нетерпеливо ожидавшей его Нине Николаевне (по телефону я сказал, что Гуль едет). Тотчас мы выпустили его, и на этот раз дело пошло удачнее: едва я открыл дверцу, как ястреб выскочил на порог клетки, помедлил одно мгновение и плавно перелетел на горизонтальный сук орехового дерева. Он переживал очарование, понятное даже нам, людям: сад, горный воздух, горы вдали, небо и уверенность в крыльях. Осмотревшись, Гуль взмахнул крыльями и описал над садом три круга.
– Осматривается, запоминает место, – сказал наш квартирохозяин, садовник Шемплинский (все собрались смотреть первый выход Гуля на широкую дорогу самостоятельной жизни).
Некоторое время ястреба не было видно за вершинами тополей. Когда он вновь показался, осмотр, надо думать, был кончен, так как Гуль резко пошел вверх; он уменьшался, исчезал, стал, наконец, едва заметной точкой вверху. Закинув голову, с завистью смотрел я, как он летит там, где плавали и другие точки. Вдруг точка – Гуль – начала падать почти отвесной линией, закатилась куда-то между городом и горой Аргамыш и исчезла. Начал Гуль сразу охотиться или не стерпел разреженного воздуха по непривычке к высоте, я не знаю, он мне никогда о том не сказал.
– Вот и улетел наш Гуль, – оказала Нина Николаевна, растроганная зрелищем. – Ну, вот... Ну и пусть он живет свободно.
Все мы – Шемплинский, его жена, я и Нина Николаевна – долго спорили, вернется ястреб или нет. Втайне я надеялся, даже был уверен, что он вернется: остальные выразили сомнение: "Дикая птица". А так как весь день не было и следов Гуля, я тоже наконец поверил, что Гуль с нами простился.
Уже село солнце, когда я и Нина Николаевна возвращались с прогулки.
– У вас гость! – весело улыбаясь, сказала Шемплинская, едва мы вошли в калитку.
К великой радости нашей и удивлению, произошло следующее: на заходе солнца Гуль прилетел, посидел на крыше и спустился на дерево перед окном. Хозяйка взяла его и посадила в клетку, куда он прыгнул охотно.
Удивлению нашему не было конца. Мы накормили Гуля вареным мясом; я подвесил клетку к веревке, протянутой между беседкой и деревом, чтобы кошка не схватила птицу (кошки ломают клетки), а наутро Гуль опять улетел, возвратившись вечером как к себе домой. Тут я сделал ошибку, начав его ловить, чтобы посалить на ночь в клетку; ястреб дал поймать себя, но потом, как близко ни садился ко мне, схватить его я уже не мог.
С третьего дня свободы Гуль установил для себя такой режим: утром он сидел на трубе дома, махая крыльями и криком требуя пищи. Вначале я бросал ему на крышу мясо, сливы и куриные кости; ястреб слетал, схватывал добычу, делал по саду круг и усаживался терзать провизию на задней стороне трубы, так что виден был только хвост, двигающийся то вверх, то вниз. Затем Гуль улетал в горы; иногда он проводил часть утра, сидя на перилах балкона соседнего здания – больницы. Спал Гуль где-то вблизи на дереве, но где именно, установить не удалось. Я начал приучать его брать мясо из рук; пококетничав сколько мог, но не больше размеров аппетита, ястреб слетал, схватывал мясо с протянутой вверх руки, облетал вокруг сада и усаживался на свою трубу. Однажды Гуль сел мне на голову, правда, тотчас слетев, и Нина Николаевна говорила, что, восхищенный, я пробормотал: "Ах ты прелесть моя!"
Случилось так: мы ушли в горы; над нами довольно высоко, медленно по направлению нашего пути пролетел ястреб.
– Это Гуль, – сказала Нина Николаевна.– Он провожает нас.
Я не поверил, а на обратном пути, через час или два, когда мы подходили к дому (дом стоял в цветочном и фруктовом саду), я опять увидел ястреба, тотчас признав Гуля, так как птица летела низко. Узнал, значит, угадал, потому что все кобчики похожи один на другого. Ястреб, увидя нас, скрылся за тополями сада, сев, должно быть (как я подумал), на крышу. Через минуту вошли мы. Точно: Гуль сидел на своей трубе, взмахивая крыльями и крича: "Пи-пи-пи!" – то есть: "Хочу есть". Хозяин сказал, что Гуль только что прилетел перед нами.
Когда утром я выходил из дому, Гуль, увидев меня, немедленно начинал кричать и махать крыльями. Разумеется, я исполнял его просьбу.
Бывало, что Гуль вечером опускался с крыши на площадку перед домом и бегал, как курица, среди клумб, давая подходить вплотную к себе, но тронуть не позволял: улетал на крышу.
Так прошли три недели. В конце третьей недели два ястреба, играя, пролетели над крышей: один (Гуль) сел на трубу, а второй, приветливо крича, улетел. То был приятель Гуля или... или его подруга.
V
 У старика Шемплинского было две кошки: старый кот Айша, ленивое, добродушное животное, и проворная молодая Белка – белая кошка с зеленоватыми мерцающими глазами. Белка часто смотрела на ястреба, когда он бегал перед домом или сидел низко на ветке, но мы отгоняли ее по причине крайней напряженности ее взгляда на птицу.
У старика Шемплинского было две кошки: старый кот Айша, ленивое, добродушное животное, и проворная молодая Белка – белая кошка с зеленоватыми мерцающими глазами. Белка часто смотрела на ястреба, когда он бегал перед домом или сидел низко на ветке, но мы отгоняли ее по причине крайней напряженности ее взгляда на птицу.
Кухня стояла отдельно от дома. Крыша кухни была значительно ниже крыши жилого здания, – плоская, слегка покатая крыша из черепицы. Вплотную к кухне примыкало ореховое дерево.
Утром Гуль сидел на воронке сточной трубы крыши жилого дома. Я бросил ему куриную кость на крышу кухни и ушел в свою комнату.
Едва совершенно беспричинно успел я подумать, что Белка может схватить Гуля, как отчаянный крик – плач ястреба – выбросил меня в сад. Прошла всего минута, но страшное уже свершилось: Шемплинский, стоя перед кухней, держал в руке умирающую птицу. Она слабо подергивалась, глаза ее закатились, одно крыло было смято и висело, на шее проступала кровь.
Произошло следующее: Шемплинский, услышав крик Гуля и возню на дереве, выскочил из кухни и камнем сбил Белку, закусившую ястреба сверху плеч так, что из ее рта беспомощно торчали распростертые крылья. Кошка выпустила ястреба, и он упал на траву.
Я взял Гуля, почти плача; Нина Николаевна плакала. Ястреб лежал на моей ладони с затянутыми предсмертной пленкой глазами, свесив голову. Он был теплый, сердце билось слабо. Тотчас я подставил Гуля под кран и начал отливать водой. Прошло минут пять: наконец, задохнувшись от попавшей в рот воды. Гуль хлопнул здоровым крылом. Он сел, качаясь, едва держась на ногах; его глаза то открывались, то закрывались опять.
Чтобы он отлежался, я посадил его в клетку, постлав туда травы. Он лег на грудь, вновь стал умирать, вытягиваться, но вдруг – и, очевидно, страшным усилием – воспрянул, забившись по клетке в совершенном исступлении. Сгоряча он правильно распускал оба крыла, и я понял, что кости раненого крыла не сломаны. Это меня ободрило; затем, боясь, что Гуль искалечит себя, колотясь в тесном помещении, я вынул его из клетки и принес в комнату. Чтобы поддержать силы Гуля, мы принялись насильно кормить его: Нина Николаевна раскрывала клюв, а я просовывал туда маленькие кусочки мяса, которые ястреб бессознательно стал глотать. Капля крови на шее оказалась следствием простой царапины; однако Гуль долго не мог поворачивать голову. Насильственное кормление продолжалось дней пять, затем Гуль стал есть рубленое мясо сам, а так как правая лапка его была ушиблена, то он клевал мясо с руки.
Через десять дней после несчастья с Гулем мы переехали в город и посадили злого, как черт, кусающегося, измученного переездом ястреба на камень на подоконнике, среди герани и испанского камыша.
VI
 Выздоровление Гуля протекало так медленно, как это было бы с человеком, изувеченным тигром. Гуль требовал неустанного попечения, и особенных забот требовало раненое крыло: чтобы маховые перья не съел едкий помет, я каждый день очищал крыло мокрой ватой и насухо протирал его. Гуль пытался укусить руку; тогда я клал его на колени, головой к себе, прикрыв туловище рукой вместе со здоровым крылом (оно было, по-видимому, только ушиблено, так как Гуль недели через две свободно махал им и чистил его сам). Гуль кричал, если я неосторожно причинял ему боль, но обыкновенно он прятал голову в складку блузы и молча пощипывал материю; иногда выскальзывал из рук и, хлопая здоровым крылом, взбирался на плечо.
Выздоровление Гуля протекало так медленно, как это было бы с человеком, изувеченным тигром. Гуль требовал неустанного попечения, и особенных забот требовало раненое крыло: чтобы маховые перья не съел едкий помет, я каждый день очищал крыло мокрой ватой и насухо протирал его. Гуль пытался укусить руку; тогда я клал его на колени, головой к себе, прикрыв туловище рукой вместе со здоровым крылом (оно было, по-видимому, только ушиблено, так как Гуль недели через две свободно махал им и чистил его сам). Гуль кричал, если я неосторожно причинял ему боль, но обыкновенно он прятал голову в складку блузы и молча пощипывал материю; иногда выскальзывал из рук и, хлопая здоровым крылом, взбирался на плечо.
Шея его зажила: еще не совсем свободно, но довольно живо Гуль начал вертеть головой, чистясь там, где мог достать клювом. Зажила лапка; ястреб хватал уже ею мясо и бегал по комнате не хромая. Незалеченным оставалось левое крыло. Насколько был глубок укус, исследовать не хватало у меня мужества. Что связки и суставы целы, я убеждался в этом неоднократно, потихоньку оттягивая крыло за концы маховых перьев; крыло подбиралось правильно, но управлять им Гуль совершенно не мог; лишь очень постепенно, по истечении месяца, он научился слабо подтягивать крыло, снова отпуская его затем висеть.
Так прошел август. К 15 сентября Гуль оправился настолько, что чистил под крыльями, со стороны спины, оба крыла: больное крыло лежало у него правильно подтянутым, все перья были чисты без моей помощи. Я выносил ястреба за двор, на пустырь; Гуль неровно махал крыльями, взбираясь на груду камней у забора, бегал по шесту, подвешенному между двух деревьев, слетал мне на руку, на плечо; он почти не кусался теперь, разве лишь если его дразнили, щупая шелковистые штанишки: штанишки Гуля действительно были очень приятны на ощупь. Видя такие успехи Гуля, я начал учить его летать в расчете на то, что крыло зажило и только ослабело из-за долгого бездействия. Понемногу, но каждый день я заставлял ястреба взлетать с руки на табурет, стул, кровать, пользуясь всегдашним стремлением птицы садиться на возвышение. Усиленное кормление тоже помогло, и к концу сентября Гуль мог сам перелетать расстояние в три метра – с подоконника на письменный стол. После этих упражнений его крыло отвисало.
Должно быть, окончательно приручился и привязался Гуль к нам именно после несчастья, когда увидел, что руки человека, приближение которых раньше пугало птицу, кормят ее, чистят и помогают передвигаться. Теперь можно отнять у Гуля мясо, не опасаясь укуса.
В таком неопределенном положении Гуль находился до двадцатых чисел октября. Я поехал в Москву, пробыв в отсутствии девять дней, и по возвращении увидел, что Гуль уже свободно перелетает комнату, садясь всюду, кроме высшей точки квартиры – верха буфета, куда подняться у него еще не хватало силы.
Оказалось, что без меня ястреба не трогали. Он сидел спокойно на невысоком насесте против окна и сам каждый день упражнялся, слетая на пол, взлетая на кресло, стол, кушетку, а к ночи возвращаясь на свой насест. Спокойный теперь за судьбу Гуля, я стал меньше возиться с ним, иногда в виде сюрприза, чувствуя, что на плечо село что-то живое и чистится.
В первых числах ноября Гуль взлетел на буфет с плеча Нины Николаевны. Немедленно я понес его за двор, на пустырь. Гуль сидел на высоте поднятой руки. Взглянув, прищурясь на небо, ястреб полетел невысоко над землей и, одолев расстояние в полквартала, сел на тумбу у винного склада. Я подошел. Гуль охотно сел на руку и на плечо. Когда я подходил к дверям квартиры, он вспорхнул опять и сел на крышу противоположного дома. Никакими средствами не удавалось заставить, его слететь; ястреб чистился, осматривался и вертелся, как балерина. Я ушел в комнату, наблюдая за Гулем из окна. Забеспокоясь, ястреб прилетел на подоконник и скакнул на свою жердочку.
Весь день он летал по комнатам, садясь то на сливочное масло, то на лампу, то на рамы картин. Утром я выпустил его со двора, и Гуль, плавно взмахивая крыльями, скрылся по направлению к горам. Я был твердо уверен, что он вернется. Действительно, как стало смеркаться, Нина Николаевна сообщила, что Гуль сидит на бельевом шесте, у крыльца. Взял его, покормил, посадил на жердочку. Совершив туалет, он завернул голову под крыло.
На другой день Гуль опять улетел рано утром и долго не возвращался. Пришлось лечь спать. Я беспокоился.
Надо сказать, что наши окна закрываются изнутри ставнями. Район глухой. Я дремал, и мне показалось, что выламывают стекло в моей комнате. Я зажег лампу и открыл ставню. Это Гуль хлопал крыльями о стекло, сидя на карнизе; он запомнил окно, из которого, больной, так долго смотрел на улицу! Радость была велика. Впустили бродягу, покормили, и он домовито сел на свою жердочку.
В следующие дни, выпуская Гуля, я сторожил вечером его возвращение и убедился, что ястреб вначале прилетает на двор, садится там на дерево или шест. Он слетал ко мне на плечо, едва завидев меня.
Вскоре окна были замазаны, заперты; наступили холода. До весны ястреб будет жить в комнатах. Холодно ждать его возвращения: на дворе снег, мороз до десяти градусов.
Большей частью Гуль сидит у меня на плече, иногда на раме большого зеркала. Любопытно, что отражение в зеркале не волнует Гуля: он остается равнодушный к отраженному ястребу. А как волновался он, когда, раненный, в клетке, заслышал однажды крик – призыв своего друга, который тщетно искал его! Гуль весь дрожал, увел голову в плечи, весь замер от муки и горя...
Я уверен, весной они встретятся…
Гриф
ГИМН
Великий лев! Очаровательный спартанец! Дикая победоносная кошка! Гривастый огонь! Шалун с лицом старого капитана! Рык и гнев!
Да славна будет порода твоя, твои толстоголовые котята!
Желаю тебе много мяса, камышей и лунного света!
ОШИБКА СТОРОЖА
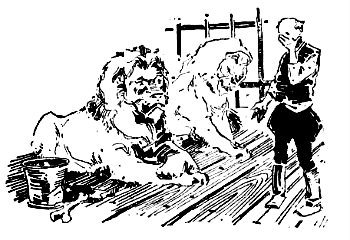 Тадеуш был пьян. Прислонившись спиной к огромной стальной клетке, по которой безостановочно и бесшумно ходили два льва, сторож думал о чем-то своем и размазывал по лицу слезы.
Тадеуш был пьян. Прислонившись спиной к огромной стальной клетке, по которой безостановочно и бесшумно ходили два льва, сторож думал о чем-то своем и размазывал по лицу слезы.
Львы Гриф и Астарот, ступая с могучей мягкостью гигантских кошек, расхаживали по диагонали клетки навстречу один другому, не сталкиваясь, поворачиваясь всегда на одном и том же месте с точностью заводных фигур.
Астарот был стар, с впалыми, линяющими боками и худым хвостом. По клетке он ходил двадцать два года.
Гриф был молод, в расцвете сил, массивен, космат и статен. По клетке он ходил восемь лет и помнил еще озеро Чад.
Изредка ужасное "Х-грар-р-р!", подобное коротким раскатам грома, вырывалось из горячей его пасти.
Астарот отвечал тем же.
Они говорили:
– Я в клетке!
– Тресни она! И я в клетке!
На задней, цементной стене львиной тюрьмы метались их тени.
Тадеуш долго смотрел на пол, утирая слезы, затем, махнув рукой, отпер клетку, вошел в нее и сказал:
– Лев! Грифочка! А, Гриша! Съешь меня!
Гриф остановился, сморщился, вытянулся на передних лапах и улыбнулся. Улыбка его напоминала выражение лица человека, собравшегося чихнуть.
– А-хр-гра-р-р?.. – сказал он. (От тебя пахнет водкой. Ты не злой?..)
– Так что, зверюги, растерзайте меня, – продолжал, всхлипывая. Тадеуш. – Излохматьте меня, жизнь моя горькая!
– Гра-р! – сказал Астарот. (Скучно. Каждый раз то же самое.)
Тадеуш стоял, покачиваясь. Разжалобив себя, сколько мог, тщетными увещеваниями к зверям использовать его как ужин, сторож наконец расплакался навзрыд, изругал львов уличной бранью и побежал в не столь отдаленный переулок за порцией "кали-мали".
Разбитое сердце погубило его пьяную память. Он забыл запереть дверь клетки.
"БЕЖЕНЕЦ" НОВОГО ТИПА
Львы снова принялись ходить по диагонали, но скоро внимание Грифа было привлечено узкой блестящей щелью между замком и стальной стойкой. Лев изучил каждый дюйм клетки. Он знал, что в этом месте щели никогда не бывает. Лев тронул щель лапой – дверь хлопнулась и открылась шире (вовнутрь). Гриф раскрыл ее легким движением головы. Астарот, остановившись, смотрел.
– Г-р-р! – сказал Гриф. (Астарот, я удивлен. Тут пустота, свобода!)
– А-х-гр-рг-рах! (Не верю, клеток много на свете.)
Новый взрыв грома. Длительно и грозно заревел Гриф, скакнув в коридор. Астарот беспокойно метался в клетке, но не выходил. Его опустошенное сердце волновалось непонятной тоской.
– Ра-грам-ронг! – ответил Гриф. (Я ухожу, старик!)
Астарот молчал.
Обезьяны подняли визг, скача, подобно крошечным безумным старушкам. Дикобраз проснулся и зашуршал иглами. Маленький гималайский медведь вдруг почувствовал себя смертельно обиженным, влез на свою качель, доска которой была украшена надписью: "Миша качается", – и, скрючив босые пальцы, проворно залетал взад-вперед, испуская тонкие, скулящие возгласы.
Гриф бросился на струю свежего воздуха, лившуюся из-под входной двери. Разбив дверь могучим скачком, зверь прыгнул через садовую ограду и начал производить сенсацию.
Почти тотчас же, как ушел лев, вернулся Тадеуш. Он мгновенно протрезвел, запер Астарота, схватился за голову и побежал к телефону.
СВИНЬЯ. ДВА "ЛЬВА"
 За оградою был пустырь, за пустырем – деревянные заборы и уединенные дома окраины.
За оградою был пустырь, за пустырем – деревянные заборы и уединенные дома окраины.
Гриф остановился среди пустыря и огласил громом окрестность. Тотчас же где-то кто-то пустился бежать, кто-то закричал "караул", и добрая сотня собак затявкала в различных местах города.
На одном из дворов плотный мужчина с уравновешенно-жирным лицом смотрел на розовую ушастую свинью, хлюпавшую пойло из кадки. Мужчина держал фонарь.
– Лопай, Машенька, – вдумчиво говорил он, – потом хозяина кормить будешь.
– Хрюк! – сказала свинья.
– Правильно дело. Вопче продам я тебя за сто тысяч... Не свинина, а брулиант. За полтораста отрекусь от тебя.
Тут произошло нечто: свинья, пронзительно завизжав, сшибла хозяина, и, падая, увидел он в вспышке потухающего фонаря грозное чудовище с острым пламенем круглых глаз, заносящее над свиньей лапу, в позе геральдических львов, то есть величественно.
– А-гр-р-р-р! – сказал Гриф. (Это свинья!)
Он лишил ее дыхания и стал есть. Кто-то, вопя, бежал к дому. Там замелькали огни, захлопали двери. Оберегая свое отличное настроение, Гриф захватил ужин и вернулся на пустырь. Докончив дело уничтожения полутораста тысяч, лев быстро направился к изумляющим его огням трамвайной линии и отсветам окон, где раздавались шум, звон и неясные выкрики.
Вообразите себя тихо переходящим небольшую площадь, где скрещиваются трамваи, – нынешнюю полутемную площадь. Магазины еще торгуют: вы видите наискось в белых квадратах витрин озаренные блузки, чемоданы, роскошные краски фруктов; вы настроены мирно. И вот видите вы в скупом свете фонаря присевшего на задние лапы огромного, черного от полутьмы льва.
Видение или большая собака?
 Именно это увидели на углу Залихватской и Остолбенелой улиц сразу тридцать два человека, не считая множества лошадей, ноги, шеи, хвосты и гривы которых мгновенно составили прямые линии, ринувшиеся с великим "И-го-го!" куда попало.
Именно это увидели на углу Залихватской и Остолбенелой улиц сразу тридцать два человека, не считая множества лошадей, ноги, шеи, хвосты и гривы которых мгновенно составили прямые линии, ринувшиеся с великим "И-го-го!" куда попало.
Тридцать два человека присели, задохнулись, подскочили и произвели неописуемую суматоху.
Все бежало, лавки закрывались, двери гудели.
Гриф беспомощно, тоскливо оглядывался, изредка посылая раскаты грома. Рев льва!..
Где же пустыня? Везде стены, костры вверху и внизу. Ничего не понять.
Сильное возбуждение охватило Грифа. Он метался по площади, то вскакивая на тротуар, то исчезая в тенях углов. Наконец, он помчался вдоль улицы.
Лев Пончик, главный по соде и макаронам, благодушно сидел в "Кафе мародеров". Сиял он, сияли его перстни, сиял оранжад в высоком стакане. Лев Пончик был тщедушен и мал ростом, но носил высокие каблуки.
Вошел Гриф и опрокинул кофе. Сначала он медленно спустился по ступенькам входа и встал, колотя хвостом. Глаза его горели, как люстры. Затем он молча прыгнул в середину прохода.
Пончик сидел спиной к Грифу.
 – Зачем смятение, господа? – внушительно проголосил он, видя, что все лезут под столы, давя друг друга. – Что? Милиция? Обход? Когда я свободный гражданин...
– Зачем смятение, господа? – внушительно проголосил он, видя, что все лезут под столы, давя друг друга. – Что? Милиция? Обход? Когда я свободный гражданин...
– Лев! – крикнули сзади из-под стола.
Думая, что это – личное к нему обращение, Пончик уже хотел рассердиться на подобную фамильярность и с достоинством обернулся. А затем присел перед стулом, приподнял шляпу, чем-то подавился и вытащил почему-то бумажник.
Перед ним стоял Гриф.
Состоялась величественная встреча двух львов.
Пончик замахал руками и упал в обморок.
Гриф поднял его зубами за спину пиджака и сильно встряхнул. Шурша, посыпались из карманов деньги.
Заинтересованный. Гриф выпустил Пончика (отчего тот брякнулся в кофейную лужу) и презрительно обнюхал бумажник.
– Раг-х! – коротко сказал он. (Не понимаю, чем он набит!)
Гриф покинул кафе и отправился в ужасной тоске далее.
"ЭТО МЫ". ЛЕВ И ШАКАЛЫ. ЧЕГО БОЯТСЯ ЛЬВЫ. КОНЕЦ
Довольно значительная толпа двигалась по одной из главных улиц. Впереди толпы два человека несли внушительных размеров черное знамя. На знамени стояло: "Это мы". Несравненно более скромное, чем, например, объявление кинематографа, заявление это, однако, сильно смущало прохожих: почти все встречавшие процессию боязливо расступались, сворачивая в боковые улицы.
Навстречу им мерным шагом совершающего моцион зверя вышел и остановился Гриф.
Он зарычал.
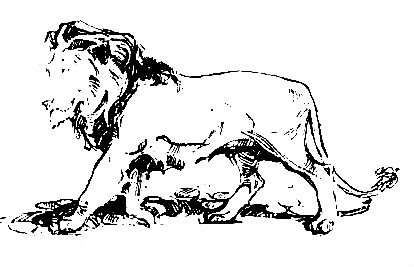 "Это мы" заколыхалось, вздрогнуло и повлеклось по земле. Передние ряды, мгновенно став задними, поползли на карачках, пытаясь, подобно страусам, затолкать свои головы меж туловищами бегущих. Бестолково затрещали револьверы. Не прошло минуты, как Грифу не на кого было уже нападать.
"Это мы" заколыхалось, вздрогнуло и повлеклось по земле. Передние ряды, мгновенно став задними, поползли на карачках, пытаясь, подобно страусам, затолкать свои головы меж туловищами бегущих. Бестолково затрещали револьверы. Не прошло минуты, как Грифу не на кого было уже нападать.
Смущенный быстрым исчезновением неприятеля, который, как показалось ему, скрылся, чтобы напасть сзади или окружить его, лев решил переждать. Легкими скачками взобрался он по некой освещенной лестнице.
Одна из дверей была раскрыта. Люди, выходящие из нее с узлами, увидели, как на картине, мясистую жесткогривую голову. Два верхних клыка пасти висели вниз, дымясь горячей слюной.
Лев встрепенулся. От людей несло особым, хорошо знакомым ему запахом истребления, вернее, нервным током убийства. Он сшиб лапами одного грабителя, упавшего замертво. Другой, бросив узел, прыгнул в раскрытое окно и ухватился за водосточную трубу, но оборвался – с пятого этажа. Эхо, раздавшееся внизу, напоминало звук расколотого полена.
Дрожа от гнева. Гриф пробежал ряд комнат, разыскивая новых врагов.
Внезапно из дверей кухни выступило нечто живое, полуголое, ростом немного ниже глаз Грифа. В одной руке оно держало нечто круглое, красное, вившееся на короткой нитке. Ужасный, леденящий душу звук огласил квартиру.
– А-а-а-а-а-а!.. – пронзительно верещало это.
Лев попятился. Оно хлопнуло его круглым красным по лбу, отчего красное лопнуло, как выстрелило; затопав, оно залилось снова:
– А-а-а-а! М-а-а-м-ма!
Лев струсил. Он беспомощно оглядывался, но кругом были три стены коридора и оно. Бегство немыслимо! Пытаясь умилостивить его, лев лизнул это в щеку, отчего оно пошатнулось и шлепнулось. Гриф снова лизнул, оно опрокинулось. Вдруг, задрожав, лев отпрыгнул и скорчился в углу: оно заголосило так звонко, что сердце менее храброго зверя лопнуло бы от страха.
В этот момент, глухо вскрикнув, вошла женщина. Она не упала в обморок, но, бескровно побледнев, стояла несколько мгновений, упираясь ладонями и спиной в стену; затем, стиснув зубы, подошла к мальчику, вынесла его на площадку и, шатаясь, заперла дверь.
Гриф облегченно вздохнул.
Женщина, крепко прижимая сына к груди, спустилась к телефонной будке и позвонила в комиссариат. Трубка бешено плясала в ее руке.
– Вот, – сказала она. – Нижегородская улица. Дом сто двадцать один.
– Что вы хотите? Мы заняты.
Слова еще не вполне повиновались ей. Наконец она нашла силу договорить. Она сказала:
– Здесь лев!
________
* Публикация В. И. Сандлера. С сокр.
** Жена А. Грина.
Рисунки Г. Сундырева.
