Отношение автора к герою художественного произведения ("Рассказы о литературе", часть II)
А как же отрицательные герои?..
 Неужели, описывая каждого своего героя, даже отрицательного, писатель обязательно хоть немножко описывает себя?
Неужели, описывая каждого своего героя, даже отрицательного, писатель обязательно хоть немножко описывает себя?
Однажды примерно такой же вопрос задали известному советскому писателю Юрию Олеше.
Олеша написал роман "Зависть", главным героем которого был Николай Кавалеров, довольно пошлый человек, одержимый злобной, исступленной завистью. Кавалеров был изображен с такой пронзительной силой реальности, с таким личным пониманием самых потаенных уголков его души, что многие спрашивали у Олеши:
– Неужели в Кавалерове вы хоть частично изобразили себя?
А иные просто решили, что Николай Кавалеров – это и есть писатель Юрий Олеша.
Отвечая на этот вопрос, Олеша говорил:
"В каждом человеке есть дурное и есть хорошее. Я не поверю, что возможен человек, который не мог бы понять, что такое быть тщеславным, или трусом, или эгоистом. Каждый человек может почувствовать в себе внезапное появление какого угодно двойника. В художнике это проявляется особенно ярко, и в этом – одно из удивительных свойств художника: испытать чужие страсти".
Это признание очень многое объясняет.
Самый храбрый человек хоть раз в жизни да испугался. Самый бескорыстный – хоть раз да позавидовал. Кто из нас в детстве не завидовал обладателю прекрасной авторучки, редкой марки, сверкающего гоночного велосипеда? Значит ли это, что все мы закоренелые завистники? Нет, конечно. Потому-то Олеша и говорит о свойстве художника "испытать чужие страсти". Чужие! Не свои! Но чтобы достоверно, правдиво, проникновенно, то есть ХУДОЖЕСТВЕННО изобразить "чужую страсть", писатель во что бы то ни стало должен найти в своей душе хоть крошечный, хоть самый ничтожный росток этой страсти.
Герой "Войны и мира" Андрей Болконский накануне Аустерлицкого сражения признается самому себе:
"Я никогда никому не скажу этого, но, боже мой! Что же мне делать, ежели я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую. Смерть, раны, потеря семьи, ничто, мне не страшно. И как ни дороги, ни милы мне многие люди – отец, сестра, жена, – самые дорогие мне люди, – но, как ни страшно и неестественно это кажется, я всех их отдам сейчас за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю и не буду знать".
Князь Андрей – один из самых обаятельных образов мировой литературы. Он умен, справедлив, благороден. Но чувство, завладевшее им в этот раз,– дурное, темное чувство. Жутко представить себе, что такой человек, как князь Андрей, мог испытывать нечто подобное. И уже вовсе невозможно вообразить, что это жестокое, холодное тщеславие, этот предельный эгоизм хоть в малой степени были свойственны самому Толстому, человеку, который не только всю жизнь проповедовал любовь к людям, но и сам в глазах всего человечества олицетворял собою совесть мира.
Но вот жена Толстого Софья Андреевна заполняет свои дневники бесконечными жалобами на тщеславие и эгоизм Льва Николаевича. Она прямо говорит, что ради славы он готов забыть родных и близких.
Может быть, Софье Андреевне не следует доверять? Может быть, она просто не понимала своего великого мужа? Тем более что Толстой и в самом деле жертвовал благополучием своей семьи, хотя и не ради тщеславия, а во имя своих идей.
Разумеется, и это играло немалую роль.
Но в том-то и дело, что так же безжалостно, даже гораздо безжалостнее говорит о тщеславии Л. Н. Толстого сам Л. Н. Толстой:
"Я много пострадал от этой страсти, – записывает он в дневнике, – она испортила мне лучшие годы моей жизни и навек унесла от меня всю свежесть, смелость, веселость и предприимчивость молодости".
Оказывается, Толстому были мучительно знакомы чувства, владевшие душой князя Андрея, – эта, как говорил сам писатель, "непонятная страсть". Она не давала ему покоя уже в ранней юности, преследовала его всю жизнь.
Что же, может быть, это дает нам основания разочароваться в Толстом? Заставляет нас меньше преклоняться перед его великой душой?
Совсем напротив!
Великий человек велик не тем, что душа его стерильно чиста, как дистиллированная водичка. Он велик тем, что даже мимолетное дурное чувство мучит его, причиняя нестерпимую боль. Недаром ведь Толстой говорит, что он "много пострадал" от своего тщеславия. Да и его герой князь Андрей стыдился своего недоброго чувства: "Я никогда никому не скажу этого..."
Возможно, создавая образ плохого человека, писатель оттого и способен так глубоко проникнуть в его темную душу, что ненавидит все плохое прежде всего в самом себе, стремится победить зло и в своей душе и вообще в жизни.
Неужели и Фонвизин мог бы сказать: "Митрофан – это я?"
Да, мог бы. Во-первых, лень, грубость Митрофанушки, да и другие его малопривлекательные качества в той или иной степени свойственны каждому из нас (хотя, скажем прямо, куда разумнее следовать не Митрофану, весьма довольному собственными скверными свойствами, а Толстому, непримиримо относившемуся к самым малым своим недостаткам).
А во-вторых, когда мы говорим, что каждый писатель даже об отрицательном своем герое может сказать: "Он – это я!", – мы имеем в виду еще и другое.
Митрофанушка и Петруша
Когда в суде допрашивают свидетелей, очевидцев преступления, почти всегда их показания существенно расходятся. Очень часто бывает так, что, скажем, из пяти свидетелей ни один не повторяет версию другого. У каждого – своя версия.
Естественно предположить, что в лучшем случае только один из них говорит правду, а остальные – лгут.
Оказывается, ничего подобного.
Все говорят правду. Но говорят так, как они ее себе представляют.
Нечто похожее происходит и в искусстве.
Если поставить рядом Швабрина из пушкинской "Капитанской дочки" и фонвизинского Митрофана, то, вероятно, это никого бы не удивило. Но интересно, что бы вы сказали, если бы мы поставили рядом с Митрофаном не отвратительного Швабрина, а симпатичнейшего Петрушу Гринева?
Наверное, вы бы оказали:
– Петруша и Митрофан? Что вы, смеетесь? Что между ними общего? Митрофан туп, хамоват, невежествен. А Петруша Гринев смел, благороден, честен. Над Митрофаном Фонвизин издевается, а Пушкин своего героя любит...
С этим трудно спорить. Пушкин действительно не только любит своего героя, но и отдает ему свои любимые мысли. А уж Митрофан... Даже если бы Фонвизин захотел подарить ему свои мысли, тот бы их просто не понял.
И тем не менее...
Крупнейший русский историк Василий Осипович Ключевский утверждал, что Митрофан и Петруша воплощают в себе одно и то же социальное и историческое явление: "Это самый обыкновенный, нормальный русский дворянин средней руки".
Поэтессе Марине Цветаевой тоже пришло в голову это сопоставление. В статье "Пушкин и Пугачев" она прямо называет юного Гринева Митрофаном. Хотя для Петруши это и звучит обидно, основания для такого сближения есть. И немалые.
Вспомните "Капитанскую дочку":
"...Доложили, что мусье давал мне свой урок. Батюшка пошел в мою комнату. В это время Бопре спал на кровати сном невинности. Я был занят делом. Надобно знать, что для меня выписана была из Москвы географическая карта. Она висела на стене безо всякого употребления и давно соблазняла меня добротою бумаги. Я решился сделать из нее змей и, пользуясь сном Бопре, принялся за работу. Батюшка вошел в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост к Мысу Доброй Надежды. Увидя мои упражнения в географии, батюшка дернул меня за ухо, потом подбежал к Бопре, разбудил его очень неосторожно и стал осыпать укоризнами. Бопре в смятении хотел было привстать и не мог: несчастный француз был мертво пьян... Батюшка за ворот приподнял его с кровати, вытолкал из дверей и в тот же день прогнал со двора... Тем и кончилось мое воспитание.
Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками..."
Ну что? Разве не похожи, как две капли воды, Петрушино воспитание и учение Митрофана? Похожи, вплоть до мельчайших совпадений. "Упражнения в географии" Петруши и Митрофановы познания в "еоргафии". Бопре, который "в отечестве своем был парикмахером", и его двойник Вральман, прежде служивший кучером. Общее у Петруши и Митрофана и их пристрастие к голубятне...
И все-таки, что ни говори, Митрофан вызывает к себе одно отношение, а Петруша – совсем другое.
Так в чем же дело? Может быть, один писатель изобразил "нормального русского дворянина средней руки" верно, а другой был к нему несправедлив?
Между прочим, именно так и считал историк В. О. Ключевский. Он полагал, что Пушкин изобразил дворянского недоросля XVIII века "беспристрастнее и правдивее Фонвизина. У последнего Митрофан сбивается в карикатуру, в комический анекдот. В исторической действительности недоросль – не карикатура и не анекдот...".
Противопоставляя судьбу среднего русского дворянина шумной судьбе высшего дворянства, находившего приют в столичной гвардии, Ключевский писал:
"Скромнее была судьба наших Митрофанов. Они всегда учились понемногу, сквозь слезы при Петре I, со скукой при Екатерине II, не делали правительство, но решительно сделали нашу военную историю XVIII века. Это – пехотные армейские офицеры, и в этом чине они протоптали славный путь от Кунерсдорфа до Рымника и до Нови. Они с русскими солдатами вынесли на своих плечах дорогие лавры Минихов, Румянцевых и Суворовых".
И дальше он говорил: "Недаром и капитанская дочь М. И. Миронова предпочла добродушного армейца Гринева остроумному и знакомому с французской литературой гвардейцу Швабрину. Историку XVIII века остается одобрить и сочувствие Пушкина и вкус Марьи Ивановны" .
Историк Ключевский прав во многом, но только не в своем отношении к фонвизинскому "Недорослю". Митрофан вовсе не "сбивается в карикатуру", он и задуман как карикатура, как образ САТИРИЧЕСКИЙ. И Пушкин и Фонвизин – оба они сказали о дворянском недоросле правду. Просто Фонвизин сгустил отрицательные свойства недорослей (о которых упоминает и Ключевский: "учились понемногу... сквозь слезы... со скукой").
Для Пушкина время Митрофанов и Гриневых стало уже историей. А Фонвизин, современник Митрофана, заботился об исправлении существующих нравов. Ведь человеку, как и обществу, иногда бывает очень полезно увидеть свои пороки сквозь увеличительное стекло.
Кстати, говорят, что комедия Фонвизина имела и самое прямое действие. По мнению иных его современников, Митрофан был карикатурой на знакомого Фонвизину дворянского мальчика Сашу Оленина. И карикатура произвела на юного Оленина такое впечатление, что он набросился на учебу, учился в Страсбурге и Дрездене, стал одним из образованнейших людей России и даже президентом Академии художеств...
Сто пятьдесят Дон Жуанов
Вы скажете:
– Ну, хорошо, Фонвизин и Пушкин оба написали правду. Это понятно. Только, может, все объясняется гораздо проще? Ведь они писали об одном и том же явлении, а не об одном и том же человеке. Пушкин мог взять хорошего недоросля, Фонвизин – плохого. Только и всего!
Но в том-то и дело, что очень часто разные писатели изображали даже одного и того же РЕАЛЬНОГО, действительно существовавшего человека так, что эти образы были похожи друг на друга ничуть не больше, чем Петруша Гринев на Митрофанушку Простакова.
Припомним строки одного из лучших стихотворений русской поэзии:
Скрестивши могучие руки,
Главу опустивши на грудь,
Идет и к рулю он садится
И быстро пускается в путь.
Несется он к Франции милой,
Где славу оставил и трон,
Оставил наследника-сына
И старую гвардию он...
На берег большими шагами
Он смело и прямо идет,
Соратников громко он кличет
И маршалов грозно зовет.
Но спят усачи-гренадеры –
В равнине, где Эльба шумит,
Под снегом холодной России,
Под знойным песком пирамид.
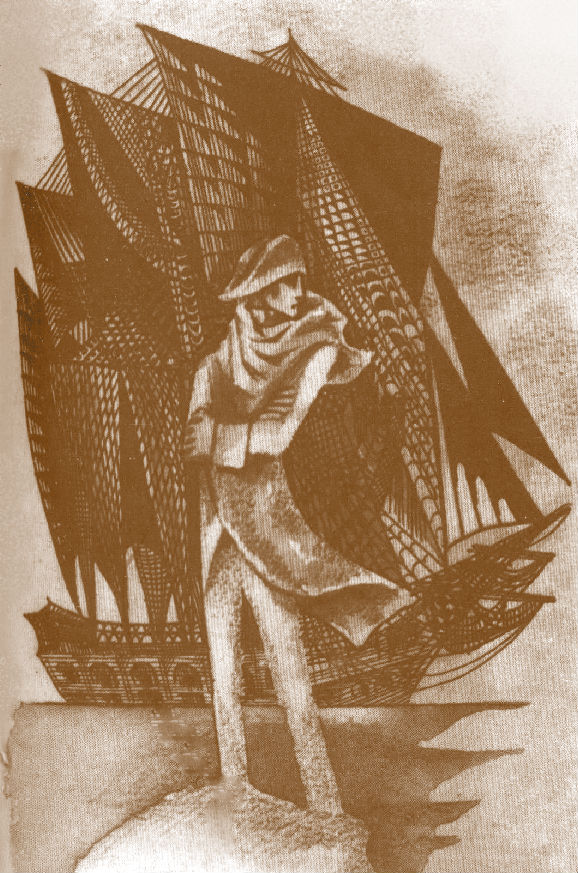 Это – "Воздушный корабль", стихи, воспевающие Наполеона. Да, именно воспевающие, потому что для автора их – Михаила Юрьевича Лермонтова Наполеон был романтическим героем, противостоящим низким и пошлым людям, окружающим поэта.
Это – "Воздушный корабль", стихи, воспевающие Наполеона. Да, именно воспевающие, потому что для автора их – Михаила Юрьевича Лермонтова Наполеон был романтическим героем, противостоящим низким и пошлым людям, окружающим поэта.
А вот другой писатель. И совсем другой Наполеон:
"...Император Наполеон еще не выходил из своей спальни и оканчивал свой туалет. Он, пофыркивая и покряхтывая, поворачивался то толстой спиной, то обросшей жирной грудью под щетку, которой камердинер растирал его тело. Другой камердинер, придерживая пальцем склянку, брызгал одеколоном на выхоленное тело императора с таким выражением, которое говорило, что он один мог знать, сколько и куда надо брызнуть одеколону. Короткие волосы Наполеона были мокры и спутаны на лоб. Но лицо его, хоть опухшее и желтое, выражало физическое удовольствие... "
А вот этот другой Наполеон смотрит на портрет сына, того самого, о котором так трогательно говорит Лермонтов:
"...С свойственной итальянцам способностью изменять произвольно выражение лица, он подошел к портрету и сделал вид задумчивой нежности. Он чувствовал, что то, что он скажет и сделает теперь, есть история. И ему казалось, что лучшее, что он может сделать теперь, – это то, чтобы он с своим величием... выказал в противоположность этого величия самую простую человеческую нежность. Глаза его отуманились, он подвинулся, оглянулся на стул (стул подскочил под него) и сел на него против портрета. Один жест его – и все на цыпочках вышли, предоставляя самому себе и его чувству великого человека... "
Это – Толстой. "Война и мир".
Подумать только – какая разница! У Лермонтова – гордый изгнанник, идущий, несмотря на свое униженное положение, "смело и прямо"; у Толстого – самодовольный пошляк, жеманничающий перед самим собою, даже свои отцовские чувства превращающий в фальшивую и актерскую позу. Там – "могучие руки". Здесь – выхоленное, жирное тело. В стихах – одинокий человек, преданный живыми и покинутый мертвыми. В прозе – барин, окруженный лакеями, кто бы они ни были, камердинеры или маршалы.
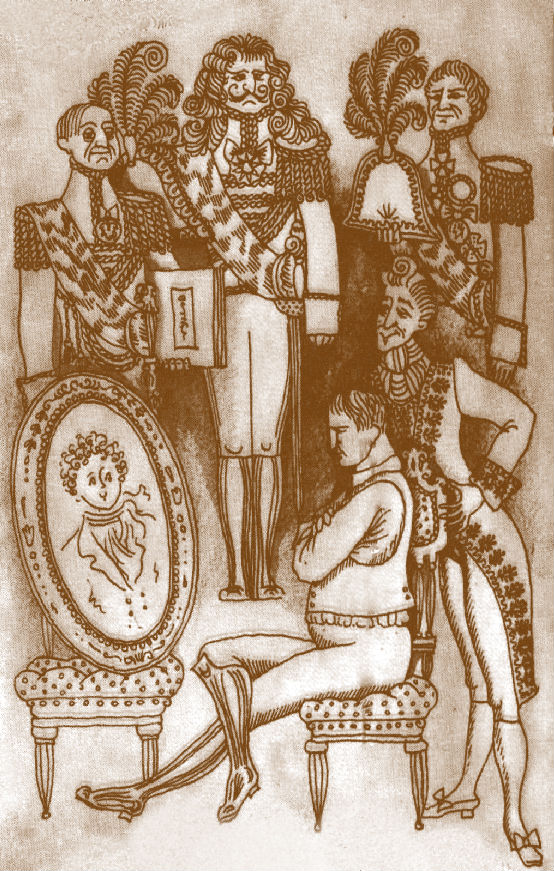 Два Наполеона... И таких примеров можно привести множество. Не десятки, а сотни, даже тысячи случаев.
Два Наполеона... И таких примеров можно привести множество. Не десятки, а сотни, даже тысячи случаев.
Невозможно представить себе читателя, которому было бы неизвестно имя Дон Жуана. Кто встречал его в комедии Мольера, кто – в стихотворном романе Байрона, кто – в повести Мериме, кто – в маленькой трагедии Пушкина "Каменный гость" (где он, правда, называется Дон Гуаном), кто – в драматической поэме А. К. Толстого... Да разве всех перечислишь! Мировая литература насчитывает около СТА ПЯТИДЕСЯТИ Дон Жуанов. И у каждого писателя – свой Дон Жуан, непохожий на своих собратьев.
Тут может возникнуть сомнение. Хотя, по слухам, Дон Жуан и существовал на самом деле, все-таки жил он давным-давно, в XIV веке. А Наполеон ведь жил сравнительно недавно. Сохранились его портреты, жизнеописания, составленные современниками, исторические документы. Словом, достаточно точно известно, каким именно был Наполеон – вплоть до его манер и привычек.
Так кто же изобразил Наполеона правильно, в соответствии с исторической правдой – Лермонтов или Толстой? Может ли быть, чтобы и на этот раз были правы оба писателя?
Может. И на этот раз правы оба.
Не только Лермонтов, который восхищался императором Франции, но и Толстой, ненавидевший и презиравший Наполеона, сделавший его воплощением лицемерной пошлости, мог бы сказать: "Наполеон – это я!.. " Это значило бы: "Я писал не Наполеона вообще, но СВОЕГО Наполеона!"
Реальный, исторический Наполеон Бонапарт был одинаково мало похож и на могучего героя лермонтовского стихотворения и на жирного пошляка, изображенного в "Войне и мире". И Толстой и Лермонтов не особенно стремились к сходству портрета с оригиналом, потому что оба они живописали не Наполеона, а СВОЕ ОТНОШЕНИЕ к нему.
Так всегда поступает художник. В красках, в звуках, в словах он воплощает свое отношение к миру.
Рисунки Н. Доброхотовой.
