Е. Данько. Неравный поединок (из романа о жизни Вольтера)
Маленький Генрих
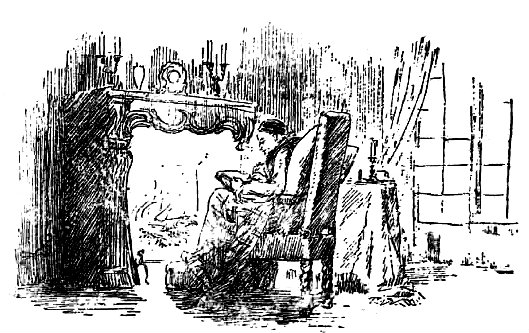 За окнами метался мелкий, сухой снег. На хмуром небе давно не проглядывало солнце. Парижская зима вступала в свои самые студеные дни.
За окнами метался мелкий, сухой снег. На хмуром небе давно не проглядывало солнце. Парижская зима вступала в свои самые студеные дни.
В высокой, угрюмой комнате возле пылавшего камина скорчился в кресле молодой человек.
Теплый плед покрывал его острые колени, бархатная шапочка была натянута до ушей на бритую голову. По его изжелта-бледному лицу было видно, что он перенес тяжелую болезнь.
Он держал в исхудалых пальцах гусиное перо и то и дело обмакивал его в чернильницу, стоявшую рядом на столике. Отсветы пламени прыгали по его торчавшему носу и впалым щекам, отражались веселыми искрами в больших, блестящих глазах. Молодой человек усмехался своим мыслям и писал:
"Сердечно благодарю вас, милый друг. У вас нет детей, вы не знаете, что такое родительская нежность. Поэтому вам не понять, как меня тронули ваши заботы о моем маленьком Генрихе. Однако отцовская любовь не ослепляет меня. Я не хочу, чтобы мой малыш явился сюда в колеснице, везомой шестеркой лошадей, с трубами и литаврами. Побольше скромности, поменьше расходов. Двух кляч с корзинками на спине достаточно для перевозки моего сына. Если же вы повезете в Париж фургон с мебелью, – уложите его среди ваших вещей. Что касается до двух тысяч одежек, которые для него шьются, – предпочел бы видеть сына одетым в провощенное полотно. Пускай немедля приступят к упаковке.
"Приезжайте. Никогда в жизни я не получал лучшего подарка, чем тот, который вы привезете мне к Новому году!
Вольтер".
Он сложил письмо пакетиком и надписал адрес. Потом взял со столика сургуч и нагнулся к камину. Когда сургуч оплыл, вскипел и задымился над пылавшей головней, он шлепнул на пакетик тяжелую и горячую красно-коричневую каплю и прижал ее сверху серебряной печаткой.
Это усилие утомило его. Он откинулся на подушки бледный, с мокрым лбом, с потемневшими веками. Печатка, звеня, покатилась на пол. Старый слуга просунул в дверь хмурую голову.
– Вам нехорошо, сударь?
Больной встрепенулся и выпрямился в кресле.
– Ля-Бри, милый Ля-Бри, послушай только: Генрих будет здесь к Новому году! Ты съездишь за ним в Руан!
Он порывисто сбросил плед, вскочил на ноги и, обхватив старика за плечи, стал приплясывать, повторяя:
– Он будет здесь! Он будет здесь! Мой маленький Генрих!
Щеки его раскраснелись, чулки спустились на пятки. Он дрыгал ногами, как паяц, и смеялся, как безумный. Кто бы поверил, что он только что лежал в кресле – больной, почти умирающий!
– Не скачите, сударь! Вам опять станет худо! – сказал старик. – Не доведет вас до добра этот Генрих!
Он усадил Вольтера в кресло и снова укутал его.
– Отнеси письмо на почту! – слабым голосом попросил тот и закрыл глаза. Его опять трясла лихорадка.
Наступил новый, 1724 год, и весь образованный Париж шумно заговорил о новом детище молодого Вольтера – о прекрасной поэме "Лига", или "Генрих Четвертый"!
Эта книга появилась в городе таинственным и загадочным образом. Королевская цензура запретила ее печатать, и все же аккуратные томики этой поэмы с портретом Генриха Четвертого на заглавном листе были в руках у всех почитателей молодого поэта!
Ходили слухи, что поэму тайно напечатали в Руане. Но как она попала в Париж? Городская стража тщательно осматривала все грузы, проезжавшие парижские ворота. Ни одна книга, ни один запрещенный листок не могли проникнуть в город без ведома полиции!
Кое-кто рассказывал, что одна молодая дама тайком привезла в Париж две тысячи томиков этой поэмы, рассовав их среди вещей в своем мебельном фургоне. Другие говорили, что вовсе не молодая дама, а старый слуга доставил эти книги и совсем не в фургоне, а на двух клячах, в корзинках, для виду наполненных овощами. Третьи уверяли, что две тысячи кожаных переплетов "Генриха" стоили так дорого, что, заплатив за них издателю, поэт остался без гроша. Дешевле было бы переплести книгу в провощенное полотно!
Когда Вольтера спрашивали, как он провез "Генриха" в Париж, он усмехался, и его глаза начинали сиять, как свечки. Он говорил:
– Да, переезд был опасный. Мой "сынишка" попал сюда просто чудом! – И заводил речь о другом.
Как бы то ни было – о его поэме говорили в пышных дворцовых залах и в угрюмых монастырских кельях, в изящных светских гостиных и за дырявыми кулисами парижских театров. Чем же так взволновал читателей "маленький Генрих"?
В поэме говорилось о любимом короле французов – о Генрихе Наваррском. В ней рассказывались не какие-нибудь выдуманные подвиги, а действительные события, происходившие всего полтораста лет назад.
В те годы междоусобная война раздирала Францию.
Французы-католики воевали с французами-гугенотами.
Одни молились богу по-латыни, поклонялись мощам и статуям святых; украшали свои храмы золотом и драгоценностями и покупали за деньги отпущения грехов у епископов, разодетых в шелк, кружево и парчу, окруженных облаками благовоний, как ангелы на иконах.
Другие читали святое писание на родном языке, слушали суровые проповеди простых, грубоватых священников в голых храмах с пустыми стенами и говорили, что не деньгами, а верой, только верой спасается человек.
Первые считали римского папу святым, вторые называли его отъявленным грешником.
В ненависти враги доходили до исступления. Они мучили пленных, выкалывали им глаза, сжигали их на кострах. Села и города пылали. Тысячи трупов лежали на вытоптанных нивах. По дорогам скитались голодные, одичалые толпы. Франция погибала.
Но вот, казалось, война утихла. Католики пригласили гугенотов в Париж, чтобы заключить с ними мир. Король-католик Карл IX отдал свою сестру замуж за принца-гугенота Генриха Наваррского. Вчерашние враги поклялись друг другу в вечной дружбе. Казалось, наступил мир.
А в следующую ночь – в ночь на святого Варфоломея – католики предательски напали на спавших гугенотов. Они врывались в дома с мечами в руках, с белыми крестами на шлемах, рубили, резали, кололи безоружных людей, выбрасывали их в окна на подставленные копья, громко призывая бога!
Кровавое зарево стояло над Парижем много дней. Зарево стояло и над другими городами. Больше ста тысяч французов погибло в этой резне.
Принц Генрих едва ускользнул от смерти.
Жестокая война снова разгорелась. Она кончилась лишь через двадцать лет, когда Генрих Наваррский завоевал Париж и стал королем Франции. Он издал мудрый эдикт, или закон, о прекращении распри между католиками и гугенотами. Отныне каждый француз мог молиться богу, как хотел, и был волен считать или не считать римского папу святым!
Читая поэму Вольтера, каждый, как наяву, видел страшные зарева Варфоломеевской ночи, слышал вопли ужаса и предсмертные стоны жертв... Запах крови, едкий и тошнотворный, поднимался от этих страниц!
Читателя охватывала великая ненависть к изуверам, истреблявшим людей "во имя божье", и великая любовь к умному и смелому Генриху Наваррскому, который с мечом в руке утвердил во Франции мир!
Читатель думал: прошло полтораста лет, а на много ли разумнее стали люди? Разве отцы иезуиты не преследуют и теперь "еретиков", не заточают в тюрьмы "безбожников"? Давно ли по их наущенью королевские войска разоряли юг Франции, где жило много гугенотов, и насаждали огнем и мечом католическую веру? Сколько преступлений совершено, сколько жизней загублено, сколько горячей человеческой крови пролито – и все "во имя божье!"
Мудрый эдикт Генриха забыт. Молодой король Людовик XV не похож на своего доблестного предка. Он слаб, изнежен и равнодушен ко всему на свете, кроме придворных забав. Кто же, наконец, образумит изуверов?
Вот, какие мысли будил в читателе скромный томик в кожаном переплете!
Просвещенные люди всех стран называли Вольтера "певцом разума и справедливости" и ждали от него великих дел. Они говорили:
– Благодаря Вольтеру, Генрих Наваррский вторично завоевал Париж и на этот раз не войной, а миром!
Зато отцы иезуиты и прочие мракобесы объявили поэму безбожной и требовали, чтобы она была сожжена на площади рукой палача! Ведь католическая церковь всегда считала Генриха Наваррского еретиком!
Что касается людей богатых, праздных и преданных развлечениям, – они восхищались поэмой как модной новинкой и наперебой приглашали молодого поэта в свои великолепные дома на ужины, балы и маскарады. Каждому, было лестно сказать: "Вчера у меня обедал знаменитый Вольтер!"
Вольтеру тоже было лестно это внимание. Ведь он был только сыном небогатого нотариуса и по рождению не принадлежал к "высшему свету". Талант и слава открыли ему двери в тот круг, куда французская знать допускала только избранных. Он пировал с великосветскими повесами, посвящал им свои стихи, забавлял их своим остроумием.
При этом он неустанно работал. Сидя у камина в своей бархатной шапочке, он исправлял и переделывал свою поэму, дописывал к ней новые песни.
"Отцовская любовь" не ослепляла его. Он видел все недостатки "маленького Генриха".
Если ж друзья, встревоженные его частыми болезнями, просили его поберечь себя и отдохнуть, он отвечал шуткой:
"Друзья, вы рано приуныли,
Доволен я своей судьбой,
Стою одной ногой в могиле
И резво дрыгаю другой!"
И продолжал работать.
Он чувствовал в себе силы сказать людям еще многое, что их взволнует и натолкнет на разумные мысли.
Храбрый рыцарь Роган
Прошло два года.
Был зимний вечер. У входа в парижский театр толпился люд. Горели фонари. Подъезжали кареты. Зрители спешили в широко раскрытую дверь. Уличные торговки нараспев предлагали им засахаренные каштаны.
В афише у входа было написано, что сегодня театр представит трагедию господина Вольтера "Мариамна" с участием знаменитой актрисы мадемуазель Лекуврер.
Театр был полон. В круглой люстре под потолком горели свечи. Знатные господа и дамы сидели в ложах. Зрители попроще теснились плечом к плечу, стоя в партере, – для них не полагалось ни стульев, ни скамей. Зато на самой сцене, изображавшей не то древний храм, не то дворец с множеством колонн, справа и слева стояли кресла. В них сидели завзятые модники, молодые богачи и высокородные "покровители театра".
В одном из кресел небрежно развалился рослый человек с грубым, надменным лицом. Пышный парик курчавился вдоль его бритых щек, рука опиралась на драгоценную трость, на кафтане сверкали брильянтовые пуговицы.
Это был отпрыск древнего рода, любимый племянник трех знатных дядюшек и генерал королевских войск кавалер Гюи Огюст де Роган-Шабо.
Он был некрасив собой, не отличался ни умом, ни талантами и, несмотря на генеральский чин, ни разу не побывал в сражениях. Это не мешало ему считать себя "цветом французского рыцарства".
Ведь мало кто во Франции мог похвалиться такими славными предками, как он!
Сосед Рогана, старый щеголь в шелку и кружевах, почтительно склонял парик, когда кавалер, зевая, изрекал что-нибудь.
Но вот, за сценой трижды простучали. Зал затих. Из-за кулис большими шагами вышли два актера в развевающихся плащах, и представление началось.
Зрители слушали и смотрели, но кавалер по-прежнему зевал. Он играл золотым лорнетом и отпускал громкие замечания насчет актеров. Старый щеголь хихикал в ответ. Зато другой их сосед, худой и бледный человек в сером кафтане, не раз поглядывал на них злыми глазами и, наконец, сказал с раздражением:
– Тише!
 Кавалер вздрогнул и покраснел. Кто смеет "ему указывать? Какая дерзость! Он устремил на соседа гневный взгляд... но тот уже не смотрел на него.
Кавалер вздрогнул и покраснел. Кто смеет "ему указывать? Какая дерзость! Он устремил на соседа гневный взгляд... но тот уже не смотрел на него.
На сцену уже выходила мадемуазель Лекуврер в пунцовой мантии, в белом, расшитом золотом платье... Вышла, заломила руки над головой, и весь зал, казалось, дрогнул от ее глубокого, тревожного голоса!
Кавалер схватился за лорнет и на время забыл свою обиду.
Акт кончился. "Покровители театра" поспешили за сцену. Роган тоже пошел вместе со щеголем. Он хотел поздравить знаменитую актрису с блистательным успехом. Но тут его ждала новая досада!
За сценой возле старых декораций и полинялых полотен стоял тот же человек в сером кафтане и оживленно говорил что-то, блестя большими глазами, то хмурясь, то улыбаясь. Актеры окружали его толпой. Мадемуазель Лекуврер совсем заслушалась, опершись локтями на какие-то пыльные доски, не замечая, что товарищи в тесноте топчут ее бархатный шлейф. Она даже не взглянула на высокородного кавалера!
Роган резко повернулся к своему спутнику:
– Кто этот в сером кафтане?
Тот поднял накрашенные брови:
– Как, вы не знаете? Это Вольтер, сочинитель Вольтер, автор "Мариамны". Он объясняет актерам, как нужно играть трагедию!
Роган нахмурился:
– Он дворянин? Богат? У него есть связи?
– О, что вы! – рассмеялся собеседник. – Он беден, как мышь! Его отец был, кажется, судейским и оставил сыну гроши. Кстати, его фамилия – Аруэ, он только подписывает свои произведения – Вольтер...
– Ах, так? Значит, без рода, без связей, даже без денег и так заносчив? Вы слышали, он посмел сказать мне: "Тише!" Зазнавшийся писака! Не худо бы проучить этого молодца, а?
Щеголь расхохотался, блеснув вставными зубами.
– Берегитесь, кавалер! Он умеет острить зло и метко!
Кавалер пожал плечами и показал свою трость:
– На остроты я отвечаю палкой!
***
Вскоре кавалер де Роган опять встретился с поэтом и опять испытал жгучую досаду.
Это было в великолепном доме герцога Сюлли, за обеденным столом, роскошно убранным хрусталем и китайским фарфором, в компании знатных молодых людей.
И здесь, как тогда в театре, все слушали, что говорил Вольтер, задумывались над его серьезными словами, смеялись его веселым шуткам. Роган бесился.
Давно ли родовитые дворяне считали поэтов самой презренной челядью? С каких пор они стали допускать этих шутов к своему столу? Подумать только – сам герцог Сюлли называет жалкого писаку своим другом, а тот отвечает ему, как равный равному! Это было нестерпимо.
И вот, когда Вольтер заговорил о комедиях Мольера, о том, как правдиво и остроумно изобразил этот автор живых, современных людей – мещан с их глупыми предрассудками, маркизов, надутых чванством, ханжей и сутяг, – Роган презрительно фыркнул и сказал сквозь зубы:
– Какая низкая литература!
– Низкая? – подхватил Вольтер. – Но я считаю весьма высоким дедам осмеивать человеческую глупость. В комедиях Мольера все вредные глупцы отражены, как в зеркале. Как жаль, что у них не хватает ума полюбоваться на свое отражение!
Он отхлебнул вина и прибавил:
– Мольер неподражаем!
Он словом огненным поэта
Исправить мог пороки света,
Но свет, увы, неисправим!
– Послушайте! – сказал Роган, обращаясь к своим соседям. – Кто этот молодой человек, позволяющий себе так громко спорить? – Он откинулся в кресле и бросил Вольтеру через стол:
– А скажите, как вас звать, любезный? Сударь Вольтер, сударь Аруэ или еще как-нибудь?
Все смолкли. Вольтер быстро взглянул на Рогана и рассмеялся:
– Как бы меня ни звали, – живо ответил он, – я приношу честь моему скромному имени, не в пример тем, кто роняет в грязь свои громкие имена! Скажу проще: мой род начинается мной – в славе, а ваш кончается вами – в бесславье!
Он снова поднес бокал к губам и, смеясь, смотрел на кавалера.
Последний отпрыск рода Рогапов вскочил в бешенстве и озирался. Хозяин и гости молчали. Он отшвырнул кресло и громкой поступью вышел вон.
– Уф! – вздохнул облегченно герцог. – Наконец-то мы избавились от этого грубияна!
– Мы должны благодарить за это нашего милого Вольтера! – воскликнул один из гостей.
Все зашумели, засмеялись, стали чокаться за здоровье поэта. Кто-то сказал, что богатство Рогана "дурно пахнет", – он нажил его некрасивым путем, как презренный ростовщик! Право, Роган столько раз марал грязью свое громкое имя, что и не перечесть!
– Забудем о нем. Он не стоит наших разговоров! – сказал герцог и приказал дворецкому подать еще вина.
Прошло несколько дней. Друзья опять собрались у герцога Сюлли и беспечно беседовали за столом. Ждали, что после десерта Вольтер прочтет им свои новые стихи.
Вдруг к поэту подошел лакей, нагнулся к его уху и сказал:
– Сударь, вас спрашивает какой-то человек. Говорит – он нуждается в вашей помощи!
– Где же он?
– Ждет внизу у подъезда!
Вольтер бросил салфетку, извинился перед хозяином и сбежал вниз по широкой, белой лестнице. С усилием оттолкнув тяжелую, резную дверь, он выглянул на улицу.
У порога его ждал какой-то незнакомец. Тут же стоял извозчичий фиакр, а поодаль, по другую сторону улицы, блестела лаком и позолотой чья-то господская карета.
– Я вам нужен, дружище? – спросил Вольтер. Незнакомец с поклоном указал ему на фиакр, откуда выглядывал какой-то человек.
Вольтер подбежал к экипажу и вскочил на подножку, чтобы узнать, в чем дело. Как вдруг сидевший крепко ухватил его за шею, а другой молодчик подскочил и стал бить его палкой, что было сил...
Вольтер вскрикнул и рванулся, но его держали крепко. Быстрые, резкие удары сыпались ему на спину, на плечи, на голову... Он отбивался и звал на помощь. Прохожие подбегали со всех сторон. Но третий негодяй, сидевший на козлах, крикнул:
– Вора бьют!
И вот, торговки, слуги, уличные мальчишки столпились вокруг, гогоча от удовольствия ...
Задыхаясь от боли, от гнева и отвращения, Вольтер бился в руках злодеев ... В глазах у него темнело... Вдруг напротив, в окне золоченой кареты, он увидел смеющееся лицо Рогана, узнал его маленькие глазки и желтые зубы!
– Так его! Еще! Еще! – кричал Роган. – Только не проломите ему голову! Это сочинитель!
Торговка в толпе зевак всплеснула руками:
– Ах, добрый барин! Вора жалеет!
Вольтер собрал последние силы, вырвался и в ярости бросился к карете... Из ее окошка грянул злорадный хохот. Лошади рванулись. Карета понеслась, сверкая гербом Рогана на лакированной дверце... А за ней умчался и фиакр с тремя бандитами ...
Вольтер остался на мостовой, сжав кулаки, тяжело дыша... Его взгляд был страшен. Зеваки не посмели над ним трунить, только та же торговка охнула:
– Хорошее кружево – как порвали! – и указала на его разодранный воротник.
Он опомнился и вбежал в дом.
Обед уже кончился. Друзья герцога сидели в голубой гостиной, рассматривая папки с дорогими тонкими гравюрами. Пламя свечей отражалось кругом в зеркалах.
И вот вбежал Вольтер, бледный, растрепанный, со струйкой крови на лбу... Все вскочили. Герцог поспешил к нему навстречу.
– Что с вами, мой друг?
И Вольтер рассказал все: как подло его заманили в ловушку, как бандиты били его палками, как Роган выглядывал из своей кареты и оттуда направлял их злодейские удары! Этот "цвет французского рыцарства" прятался за спиной наемных головорезов, не смел взглянуть в лицо врагу! Подлый трус!
Герцог слушал. Его лицо становилось все суше, подбородок поднимался все выше, глаза надменно щурились.
– Я прошу защиты, мой друг! – воскликнул Вольтер. – Поедем со мной немедля к полицейскому комиссару! Роган ответит за свое преступление! Есть же во Франции законы!
Герцог отступил на шаг и холодно сказал:
– Это не мое дело, милейший. Я не стану мешаться в ваши смешные ссоры. Помните, вы оскорбили Рогана у меня за столом? Как рыцарь и дворянин я должен был принять его сторону против вас. Но я предпочел умыть руки. Теперь я тоже умываю руки!
Он повернулся и отошел. И тотчас же все отхлынули за ним. Вольтер остался один на лощеном паркете – один, как в ледяной пустыне!
Не глядя ни на кого, он вышел из голубой гостиной.
– Однако Роган посбил спесь с этого поэта! – воскликнул тот, кто недавно пил за здоровье Вольтера.
– Право, это наше счастье, что у поэтов есть спины, а у нас палки! – сказал другой. – Иначе с ними просто сладу не было б!
Все засмеялись, зашумели, и герцог приказал дворецкому подать еще вина.
Вольтер бежал по улицам, не видя дороги, натыкаясь на встречных. В висках у него стучало. Что сказал Сюлли? "Как рыцарь и дворянин я должен был принять его сторону..." Сторону Рогана – негодяя, подлеца, труса, которого они сами же называли грязным ростовщиком? Почему? Потому что у обоих – у Сюлли и у Рогана – целая галерея предков! Потому что они оба – знать! Где же справедливость?
И полицейский комиссар, конечно, возьмет сторону знатного господина против нищего поэта!
...Нет, Вольтер не станет искать защиты у полиции! У него найдутся влиятельные друзья и помимо Сюлли... Например, мадам де При, приятельница первого министра. Она всегда восхищалась стихами Вольтера, благодаря ей он был представлен молодой королеве... Она расскажет министру о злодейском поступке Рогана! Правительство не станет покрывать преступника... Роган – аристократ, тем строже он должен соблюдать законы Франции... Рогана предадут королевскому суду...
Он бросился к дому мадам де При. Напудренный швейцар в золоченой ливрее сказал ему, что мадам в опере. Он помчался в театр, вбежал в партер... На сцене седобородый старец в короне ревел басом громовую арию. Рыжеволосая певица рыдала у его ног. В ложе у самой сцены он увидел красивую и нарядную мадам де При, окруженную блестящими кавалерами... Она сделала ему знак веером. Он бросился вверх по лестнице и обежал кругом по галерее.
– Входите, входите, милый Вольтер! Вы принесли мне обещанные стихи? – воскликнула мадам де При, когда поэт появился в дверях ложи. – Но, ради бога, что с вами? Вы похожи на привидение!
Бледный, с глубоко запавшими глазами, Вольтер рассказал ей, как его избили, еле сдерживая волнение. Брильянты сверкали в ушах красавицы, пышные перья колыхались в ее прическе, пока она с гневом и негодованием слушала его рассказ. Роган, это грубое животное, посмел обидеть такого милого, такого любезного поэта!
– Первый министр не потерпит таких безобразных поступков! – твердо сказала она. – Мы никому не позволим оскорблять нашего Вольтера. – Не правда ли, маркиз?
Маркиз, сидевший тут же, слегка усмехнулся.
– Что говорить, мадам, поступок Рогана похож на убийство! Но ведь и остроты тоже бывают "убийственны"! Господин Вольтер не станет этого отрицать!
Она с досадой хлопнула веером по руке маркиза.
– Не слушайте его, Вольтер. Поезжайте домой и ложитесь в постель. У вас вид больного. Я вам обещаю, что Рогана потребуют к ответу!
Однако ее голос звучал теперь уже не так уверенно. Вольтер почувствовал, что он ужасно устал. Избитое тело ныло. Колени дрожали и кружилась голова.
Поцеловав руку мадам де При, он вышел из театра, с трудом влез в фиакр и велел отвезти себя домой. А дома всю ночь промучился без сна, перебирая в уме события этого несчастного вечера.
Утром, когда он был еще в постели, к нему ворвался Тьерио. Он уже знал все. На нем лица не было от волнения.
– Говорите скорей, что нужно делать? – запыхавшись, спросил он. – Позвать к вам врача? Или поехать к полицейскому комиссару? Или – прямо к королю?
Милый Тьерио, товарищ юности, ласковый, преданный и сумасбродный! Вольтер обхватил шею друга и, прижавшись к его плечу, заплакал, как ребенок.
День прошел в мучительном беспокойстве. Они ждали вестей от мадам де При. Наконец под вечер она прислала записку: ей очень жаль, но она ничем не может помочь бедному поэту, первый министр сказал: "Вольтер сам виноват, что разозлил Рогана..."
Значит, и правительство приняло сторону высокородного негодяя ... Пускай Роган – преступник, пускай – злодей, для таких, как он, закон не писан!
Вольтер заметался по комнате, сжав кулаки. Но он найдет управу на Рогана! В Париже существует не только мнение правительства, но и мнение "общества", мнение всех честных и благородных людей! Неужели те люди, которые восхищались идеями добра и справедливости, высказанными в "Генриаде", которые так прославляли ум и дарование Вольтера, допустят, чтобы "отпрыск древнего рода" безнаказанно издевался над поэтом! Нужно, чтобы все они знали о "благородном" поступке "храброго" рыцаря!
Они отвернутся от Рогана, он станет посмешищем в их глазах! Мнение "общества" повлияет на министра, Рогана привлекут к ответу!
С этого вечера Вольтер, тщательно одетый и завитой, стал появляться в театрах, на балах и в других местах, где собиралось парижское общество. Он искал сочувствия. С горящими щеками, с лихорадочным взглядом он вновь и вновь рассказывал, как с ним поступил Роган. Он сыпал язвительными словечками, он потешался над этим "цветом французского рыцарства", который вел себя, как подлый убийца из-за угла.
Его слушали с любопытством, а выслушав, расходились равнодушно, кто – пожимая плечами, кто – с усмешкой, кто – с злорадным блеском в глазах.
Даже принц Конти, посвятивший Вольтеру послание в стихах, в котором он превозносил поэта наравне с Корнелем и Расином, – этот самый Конти говорил теперь, что в случае с Роганом "палочные удары были хорошо даны, но плохо приняты". Светские зубоскалы подхватили эту бессмысленную шутку и повторяли ее за спиной Вольтера на разные лады: "Хорошо даны, но плохо приняты".
А однажды, выходя из театра, Вольтер случайно подслушал разговор двух молодых людей.
– Этот избитый поэт так намозолил всем глаза и так надоел своими жалобами, что даже друзья от него отвернулись! – сказал один.
– Напрасно он жалуется! – подхватил другой. – Недаром говорится, что судьба поэта:
Творить в каморке жалкой,
А умереть под палкой!
– Вольтер претерпел побои, но зато уж теперь никто не усомнится, что он подлинный поэт! Право, он должен быть благодарен Рогану за палочные удары!
Они рассмеялись и скрылись в уличной темноте.
Кровь бросилась ему в голову. Он понял, что он, а не Роган, стал посмешищем в глазах парижского общества, что он опозорен, оплеван, затоптан в грязь! Как ему теперь писать, как печатать задуманные произведения, если даже имя Вольтера вызывает презрительный смех!
Но он смоет с себя это грязное пятно, смоет, если нужно, своей кровью. Он вызовет Рогана на дуэль. Пускай он не первый поэт, избитый палками по приказу дворянина. До него Буало, Расин, Мольер подвергались той же участи. Но он будет первым поэтом, вызвавшим знатного негодяя на смертельный поединок, как равный равного! Он убьет Рогана или сам будет убит!
Фехтовальный учитель
Вольтер не захотел брать уроки у кого-либо из модных фехтовальщиков, где он мог встретить докучных светских франтов. Тьерио нашел ему другого учителя.
В кривом переулке на окраине города Тьерио разыскал облупленную дверь с вывеской: голубая рука держит голубую шпагу. Его встретил пожилой, сухощавый человек в расстегнутом военном мундире, с голландской трубкой в зубах, черноглазый и приветливый. Это был отставной сержант и учитель фехтования мэтр Лейно.
И вот, однажды ранним утром Вольтер явился в его "фехтовальный зал". Это был простой сарай с утоптанным земляным полом. На дощатых стенах висели шпаги, рапиры, перчатки с раструбами, проволочные маски. Мэтр Лейно был знаток своего дела.
Он предложил поэту снять кафтан, согнул его руку в локте, пощупал мускулы, осмотрел кисть и покачал головой.
– Вы никогда не фехтовали, сударь?
– Никогда! – Вольтер густо покраснел. Каким слабым и мешковатым показался он себе рядом с этим седым сержантом на пружинистых ногах!
Мэтр Лейно похлопал его по плечу.
– Не унывайте, сударь. Все дело в упражнении!
Они встали друг против друга – в правой руке шпага, левая – приподнята над головой, правая нога согнута в колене, левая – отведена назад. Лейно стал показывать поэту, как нужно наносить и парировать самые простые выпады.
Скоро Вольтер запыхался. Пот лил с него градом. Кисть руки невыносимо болела. Под глазами выступили темные круги. Он присел на колченогий стул с тяжело бьющимся сердцем.
– Довольно! – сказал Лейно, отвернувшись, чтобы разжечь трубку. – Вы устали, приходите завтра. Мало-помалу, день за днем вы привыкнете и к нашим упражнениям!
Вольтер вскочил на ноги.
– Но у меня нет времени, мэтр Лейно! Я не могу учиться "мало-помалу"! Я должен драться на поединке!
– На поединке? – Лейно выронил огниво из рук. – Господи, помилуй, да вас любой хват проткнет, как цыпленка! Бросьте эту затею, сударь!
– Я не могу бросить. Это дело чести! – с отчаянием сказал Вольтер. – Прошу вас, продолжайте урок!
Мэтр Лейно молча глядел на него. Потом отшвырнул трубку, схватил шпагу и, бормоча:
– Дьявол меня унеси, если я не выучу его драться как следует! – встал в позицию.
Они снова скрестили шпаги и упражнялись до полудня. Вольтер был в изнеможении. В полдень они с Лейно закусили копченой рыбой, запив ее кислым вином. Потом стали приходить другие ученики сержанта – солдаты из соседней казармы, свободные от дежурства. Они фехтовали друг с другом, наскакивая и отступая, наполняя зал лязгом клинков и сверканьем стали. Мэтр Лейно, сидя на табурете, весело выкрикивал им свою команду.
Вольтер следил за их сильными, гибкими телами, радовался удачным выпадам, слушал громкий смех и грубоватые шутки. Да, эти молодцы сумели бы постоять за свою жизнь!
Вольтер поселился у сержанта Лейно в чердачной каморке над "фехтовальным залом". Там во все щели дул ветер. В задымленном очаге скудно тлели дрова. Спать приходилось на жестком соломенном тюфяке. Поэт этого не замечал. Его дни проходили в упражнениях со шпагой. Он был одержим одной мыслью – овладеть искусством фехтования и вызвать Рогана на поединок!
Настоящие друзья не покинули его. Тьерио забегал к нему каждый день, приносил вести о Рогане. Оказалось, когда этот "храбрый рыцарь" узнал, что поэт учится фехтовать, – он до того перетрусил, что теперь выходит из дому только в сопровождении двух вооруженных до зубов телохранителей! И носит кольчугу под камзолом! И говорит всем, что ждет злодейского нападения на свою особу!
– Вот скотина! – возмущался Лейно. – Да разве мы такие негодяи, как он? Мы вызовем его на честный поединок, как водится у порядочных людей! Бери шпагу и обороняйся по всем правилам! А не хочешь драться – проси прощения!
Мэтр Лейно знал теперь все о "подвиге" Рогана и считал "дело чести" поэта своим кровным делом.
Иногда перед облупленной дверью с голубой вывеской останавливалась изящная карета, привлекая зевак. Из нее выходили две молодые женщины – мадам де Берньер и мадемуазель Лекуврер.
Это были настоящие друзья поэта, так же преданные ему, как Тьерио. Ведь это мадам де Берньер заботилась о "маленьком Генрихе", когда поэма печаталась в Руане. Это она провезла в Париж две тысячи запрещенных томиков в своем мебельном фургоне! А мадемуазель Лекуврер? Она ухаживала за поэтом, когда он болел оспой и все знатные друзья покинули его в страхе перед заразой. Но Андриенна Лекуврер, краса и гордость парижской сцены, не побоялась, что оспа обезобразит ее прекрасное лицо. Она не отходила от больного, пока ее не сменил верный Тьерио.
Что же удивительного, что сухие, настороженные глаза Вольтера теплели, а насмешливая улыбка становилась доброй, когда эти посетительницы переступали порог его каморки!
– Эти женщины – героини! – шептал Лейно и благоговейно провожал дам до их кареты. А однажды сержант расплакался, как ребенок. Это случилось, когда в фехтовальный зал вошел высокий, красивый старик с брильянтовой звездой на груди простого синего кафтана в сопровождении молодого военного. Он обнял Вольтера и сказал:
– Вы правы, мой друг, не ища защиты у закона. Дело своей чести человек решает сам!
Он поздоровался с фехтовальным учителем и спросил об успехах его ученика. И вдруг сержант с ужасом и восторгом узнал в нем знаменитого полководца, победителя при Гохштедте и героя трех войн, в которых и он, Лейно, участвовал, – маршала де Вилляра! Тут-то и пришлось сержанту скрыться в темный угол и утирать слезы, бормоча:
– Будь я проклят, если не выучу его драться как следует!
Прошли недели. Вольтер поздоровел и окреп. Мускулы его развились, тело стало упругим и гибким. Он уже свободно "играл шпагой" и, словно шутя, наносил и парировал самые трудные и опасные выпады. Он уже умел "бесить" противника легкими, острыми уколами стали, преследуя его хладнокровно, решительно и неотступно.
Наконец настал и день вызова – долгожданный день! Вольтер и Тьерио отправились в театр. Они знали, что в тот вечер Роган будет в ложе мадемуазель Лекуврер.
Вольтер вошел в театр с гордо поднятой головой. Скоро ему не придется ловить насмешливые взгляды и слышать шепот: "Избитый поэт!" Он докажет, что и у поэта есть чувство чести!
Мадемуазель Лекуврер сидела в ложе бледная от волнения и щипала свой веер. Роган, наклонившись к ее плечу, говорил что-то, когда дверь распахнулась и вошел "избитый поэт". Он поклонился и сказал ясно и отчетливо, так, что его слышали в соседних ложах:
– Сударь, если денежные делишки еще не стерли из памяти оскорбления, которое вы мне нанесли, я требую удовлетворения!
Роган забегал глазами, наклонив свой тяжелый лоб. Перед ним, сияя насмешливым взглядом, стоял Вольтер. Мадемуазель Лекуврер глядела в сторону, строгая и печальная. У дверей ложи с решительным видом стоял Тьерио, отрезая кавалеру путь к бегству.
Кавалер приподнялся, проглотил слюну и сказал:
– К вашим услугам, сударь!
– Когда?
– Если угодно... завтра, в восемь утра...
– Где?
– Я припоминаю, за Сент-Антуанскими воротами есть подходящая лужайка!..
– Я жду вас! – Вольтер поклонился и вышел. Кавалер тяжело плюхнулся в кресло а облизал пересохшие губы.
В тот вечер Вольтер и Тьерио долго беседовали в чердачной каморке. Они говорили о поездке в Англию. Быть может, завтра, после поединка, почтовая карета увезет поэта в Кале!
Когда Тьерио ушел, Вольтер бросился на соломенный тюфяк и уснул как убитый. Впервые за много дней он спал спокойно.
Но фехтовальному учителю не спалось. Его тревожил завтрашний поединок. А вдруг у поэта поскользнется нога, дрогнет рука или в глазах помутнеет? А вдруг этот пакостный кавалер проткнет его, как цыпленка? Мэтр Лейно никогда не простит себе, что не доучил своего птенца!
Он знал, что не уснет до утра. Охая и кряхтя не от усталости, а с тоски, он засветил огарок, разложил на столе свои шпаги, маски и рапиры и, чтобы скоротать время, принялся начищать их мелом. Далеко на городской башне били часы. Ночь ползла медленно.
Вдруг сержант услышал на улице топот ног, словно шел небольшой отряд. Потом он услышал громкий говор. Шаги и голоса приближались, остановились перед его дверью. И вот, раздался резкий, повелительный стук. Лейно подошел к двери.
– Отворяй, а то выломаем дверь! – крикнули снаружи.
Дрожащими пальцами Лейно откинул щеколду.
 В комнату ворвался пристав с шестью полицейскими. На мгновенье они замерли и попятились, увидев на столе тускло блестевшую при свете огарка кучу оружия, но тотчас же обнажили шпаги, выставили вперед пистолеты и во главе с приставом ринулись наверх в чердачную каморку!
В комнату ворвался пристав с шестью полицейскими. На мгновенье они замерли и попятились, увидев на столе тускло блестевшую при свете огарка кучу оружия, но тотчас же обнажили шпаги, выставили вперед пистолеты и во главе с приставом ринулись наверх в чердачную каморку!
Мэтр Лейно стоял в остолбенении. Но вот, топот и голоса послышались у него над головой. Он очнулся, схватил со стола шпагу и тоже бросился наверх.
Вольтер сидел на постели, протирая заспанные глаза. Полицейские шарили во всех углах, выворачивали наизнанку карманы его камзола. Пристав держал в одной руке фонарь, а в другой – бумагу с большой печатью и, выставив ногу вперед, громко читал поэту королевский приказ.
Этот приказ предписывал: арестовать сочинителя Франсуа-Мари Аруэ де Вольтера, злоумышлявшего на жизнь кавалера де Роган-Шабо, отвезти его в королевский замок Бастилию и заключить в тюрьму. Внизу стояло: "Дано в Версале 18 апреля 1726 года" и подпись: "Людовик".
Словно сквозь сон видел фехтовальный учитель, как Вольтер сунул ноги в башмаки, вдел руки в рукава кафтана, надел шляпу и сказал приставу: "Я готов!"
Они гурьбой спустились по скрипучей лестнице. Двое полицейских встали по сторонам арестанта. Пристав скомандовал: "Шагом!"
Тут мэтр Лейно не выдержал. Он растолкал полицейских:
– Сударь, что же это? Что это?
Вольтер только махнул рукой.
Полицейские отпихнули сержанта, вывели пленника на улицу и захлопнули дверь.
– Подлецы! – простонал фехтовальный учитель, разломил шпагу о колено и бросил обломки в угол.
Бастилия
В ночном сумраке Бастилия казалась огромной черной скалой с отвесными склонами. Восемь круглых башен, соединенных высокой стеной, поднималась над глубоким рвом. Подъемный мост опустился над ним с железным лязгом. Карета проехала в ворота. Они, грохоча, закрылись за ней. Вольтер был в Бастилии.
Он не мог не усмехнуться, ступая за своими стражами по каменным плитам тюремного двора. – Бастилия! Уже триста пятьдесят лет стоит у врат Парижа эта каменная твердыня. Карл Мудрый построил эти башни для защиты столицы от врагов. Генрих Наваррский хранил в них королевскую казну. А внуки Генриха – Людовики – стали заключать сюда государственных преступников и... поэтов.
В юности Вольтер уже побывал в Бастилии, просидел в ней полгода. Тогда его наказали заключением за насмешливые стишки, которые написал не он, а кто-то другой. Теперь его привезли сюда как государственного преступника. Вызвать одного из Роганов к ответу – разве это не государственное преступление?
Его повели в одну из башен. Поднимаясь при свете факела по винтовой лестнице, Вольтер вспоминал свои юношеские стихи, написанные во время первого заключения:
Меня в карете привезли
В тот замок, сумраком одетый.
Что наши предки возвели
При Карле Пятом. О, поэты!
О, братья, о, мои друзья!
Внемлите стон несчастной лиры!
В темнице очутился я;
Не дай вам бог такой квартиры!
Тюремщик, выжига и плут,
Мне выхвалял ее устройство:
"Здесь тишина, простор, уют
И никакого беспокойства!
Стена в семь футов толщиной.
Несокрушимая громада!
Здесь круглый год, и даже в зной,
Такая дивная прохлада!
Сюда не проберется вор –
Везде засовы, загородки,
Тройная дверь, тройной запор
И в окнах частые решетки!"
Когда ж тюремная еда
Мне в горло силой не полезла,
Сказал тюремщик: "Не беда,
Поголодать всегда полезно!"
И вот, я проклял жизнь мою
И своды камеры унылой.
Почти не сплю, не ем, не пью,
Без книг, без друга и без милой...
И вот, он снова в камере. Каменный свод, узкое оконце за решеткой, тройная дверь и тройной запор. Крепко же запер его Роган! Ах, трусливый пес!
Он всю ночь пролежал без сна на тюремной койке.
Утром к нему явился комендант Бастилии маркиз де Брольо, надушенный, в парике и при шпаге. Он слегка извинился перед узником за запоры на дверях. Что делать? Знаменитый поэт сам вынудил правительство к таким строгостям. Зачем было врываться ночью во дворец кардинала де Рогана и угрожать жизни кавалера, его племянника? Ах, горячность молодости!
Вольтер вскочил на ноги.
– Кто? Я врывался ночью к кардиналу? Вчера ночью? Это низкая ложь, это подлая выдумка!
Комендант попросил его сесть и успокоиться. Он рассказал поэту, как было дело. Вчера поздно вечером к первому министру приехал его высокопреосвященство князь церкви, кардинал де Роган, дядя кавалера. Он был взволнован, даже потрясен. Еще бы! В его дворец только что ворвался сочинитель Вольтер с обнаженной шпагой, требовал кавалера де Рогана и клялся его заколоть. Слуги едва вытолкали злодея. Мало того, что этот сочинитель – безбожник и поносит в своих писаниях святую католическую церковь, – он еще головорез и убийца! Он давно преследует кавалера де Рогана. Его высокопреосвященство просил защитить жизнь его племянника, и вместе с ним все другие Роганы, заседавшие в совете министров, управлявшие финансами, разъезжавшие по Парижу в золоченых каретах или сидевшие в своих фамильных замках в Бретани, как древние короли, – все они просили защитить жизнь последнего, самого младшего отпрыска их рода!
Министр тотчас отправился к королю и получил от него "письмо с печатью", т. е. приказ заточить Вольтера в Бастилию.
Пристав, посланный арестовать поэта, донес, что он застал его в компании с известным в околотке буяном и задирой – фехтовальщиком Лейно за чисткой огромной кучи холодного оружия! Конечно, они собирались напасть на кавалера с целой бандой убийц!
Вольтер слушал бледный, стиснув зубы.
– Однако, – прибавил комендант с любезной улыбкой, – с великим поэтом обойдутся милостиво. Если господин Вольтер чистосердечно признается в своем злодейском умысле и пообещает не трогать Рогана...
– Довольно, сударь! – прервал его Вольтер. – Прикажите подать мне перо и бумагу. Я напишу министру чистосердечное признание...
Обрадованный маркиз поспешил исполнить просьбу узника. Но когда он прочел письмо Вольтера, он побледнел в свою очередь и провел рукой по лбу.
– Неужели Роганы унизились до такой клеветы? Я не смею вам не верить, сударь, но это неслыханное дело!
На листке бумаги было написано красивым, мелким почерком:
"Чистосердечно признаю, что храбрый кавалер де Роган-Шабо избил меня палками до полусмерти при помощи трех наемных бандитов, за спинами которых он мужественно прятался. С тех пор я много раз искал случая восстановить честь – не мою честь, конечно, а честь кавалера, но это оказалось слишком трудной задачей. Это ложь, что я был во дверце кардинала и требовал его племянника кавалера де Роган-Шабо..."
Вольтер рассказал коменданту все. Тот был поражен подлостью кавалера.
– Я немедля перешлю это министру! – сказал он, беря письмо. – А вас, сударь, я попрошу оказать мне честь отобедать со мной сегодня!
Он низко поклонился узнику и вышел. Вскоре министр получил письмо Вольтера с такой припиской коменданта:
"Г. Вольтер уверяет, что может легко доказать, что он не являлся во дворец кардинала. Он предлагает остаться в Бастилии на всю жизнь, если его уличат во лжи. Он просит, чтобы ему позволили обедать с г. комендантом и принимать посетителей. Он настойчиво просит, чтобы ему разрешили уехать в Англию, дав ему провожатого до Кале, который удостоверил бы его отъезд..."
Между тем, Тьерио поднял на ноги всех друзей Вольтера. Весь Париж заговорил о последней подлости Роганов. Над Вольтером уже не смеялись, его считали жертвой. Шутки Роганов зашли слишком далеко.
О судьбе поэта говорили даже в королевском дворце. Поджидая выхода короля в толпе придворных, старый маршал де Вилляр громко сказал:
– Роган совершил преступление, избив палками французского гражданина! Правительство не право, посадив в Бастилию пострадавшего, а не преступника! Стыд и позор тем, кто оскорбляет величайшего поэта нашей эпохи!
Все видели, как покраснел при этом кардинал де Роган и как он притворился, что не слышит слов маршала!
Наконец эти разговоры достигли ушей молодого короля. Он боялся раздражить Роганов освобождением заключенного. Но в то же время ему не хотелось прослыть варваром и тираном, держа в темнице "величайшего поэта эпохи". Принимая первого министра у себя в кабинете, Людовик сказал ему с недовольной гримасой:
– Не слишком ли строго мы поступили с Вольтером?
И вот, комендант Бастилии получил приказ: "Господин Вольтер – знаменитый поэт, и воля его величества такова, чтобы вы предоставили узнику возможную свободу, не нарушая, однако, надежности его заключения в Бастилии".
После этого Тьерио, мадам де Берньер, Адриенна Лекуврер и другие друзья Вольтера получили позволение навещать его в тюрьме. А за ними хлынули в Бастилию и все почитатели поэта. Никогда еще в ворота старого замка не проезжало столько карет и экипажей, никогда еще мрачные тюремные своды не гудели от такого множества веселых голосов!
Всем хотелось услышать еще раз умные речи поэта, увидеть его лукавую усмешку, хотя бы в холодных стенах Бастилии! Ведь он собирался уехать в Англию. Он хотел там видеться и говорить с великим Ньютоном, открывшим закон всемирного тяготения. Он надеялся, что ему удастся напечатать в Лондоне новое, исправленное издание "Генриады"! Он вновь и вновь просил, чтобы его отпустили в Англию!
Наконец он получил это разрешение. Тюремщик должен был проводить его до Кале и посадить на корабль, шедший в Англию.
В последний раз собрались друзья в камере заключенного. Он простился с теми, кого любил, простился, может быть, навсегда. На другое утро карета увезла его по дороге в Кале.
Через несколько дней он увидел море. На плоском, песчаном берегу лежали черные рыбачьи лодки и серые невода. Полоса бурной воды, шириной в восемнадцать миль, отделяла его от Англии. Говорили – в ясную погоду отсюда видны скалистые утесы Дувра на том берегу. Но сейчас сизые облака катились низко над серым морем. Волны вздувались сердито. Резкий апрельский ветер доносил соленые брызги к окнам гостиницы. Зябкий поэт прятал нос и уши в теплый шарф.
 Поодаль от берега качалось на волнах черное судно. К нему пришлось добираться в шлюпке. Мокрая корма с плеском поднималась и опускалась над водой, когда Вольтер, уцепившись за канат, взбирался на судно по шаткой лесенке.
Поодаль от берега качалось на волнах черное судно. К нему пришлось добираться в шлюпке. Мокрая корма с плеском поднималась и опускалась над водой, когда Вольтер, уцепившись за канат, взбирался на судно по шаткой лесенке.
Капитан ждал попутного ветра. Вольтер провел ночь без сна в узкой, пропахшей корабельной смолой каюте. Он уезжал с тоской и болью в душе. Родина обошлась с ним, как злая, ревнивая мачеха.
Якорная цепь тоскливо скрипела в ответ его мыслям.
На рассвете ветер переменился. Выйдя утром на палубу, Вольтер увидел яркое солнце в разрывах туч, море, словно засыпанное серебряной чешуей, и убегавшие вдаль рыбачьи паруса. Он стал думать о будущем.
И вот, судно сверху донизу покрылось парусами, наполненными ветром, легко сделало поворот, повинуясь слову капитана, и понеслось навстречу волнам.
Франция осталась за кормой, за пенным, вьющимся по волнам следом корабля. Далеко впереди в голубой дымке проступал английский берег.
Рисунки Н. Петровой.
